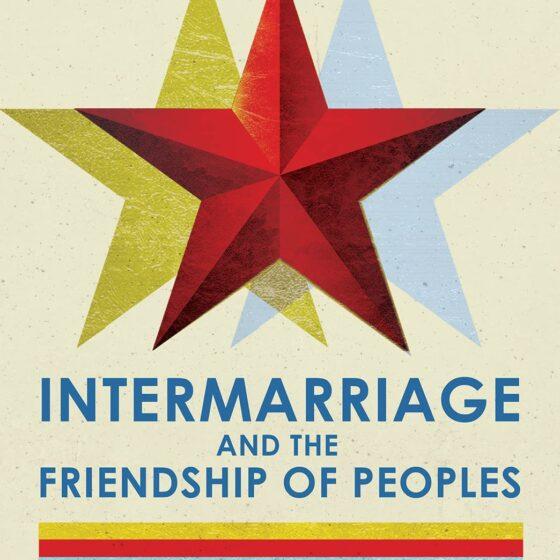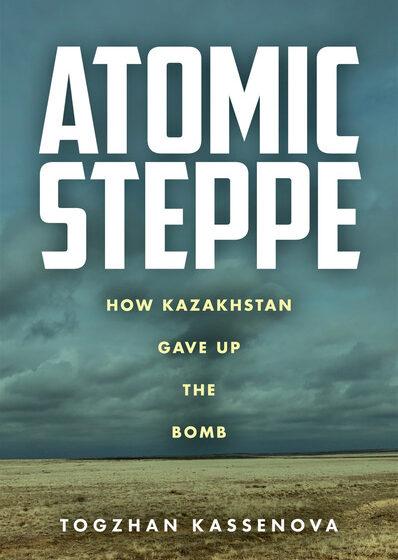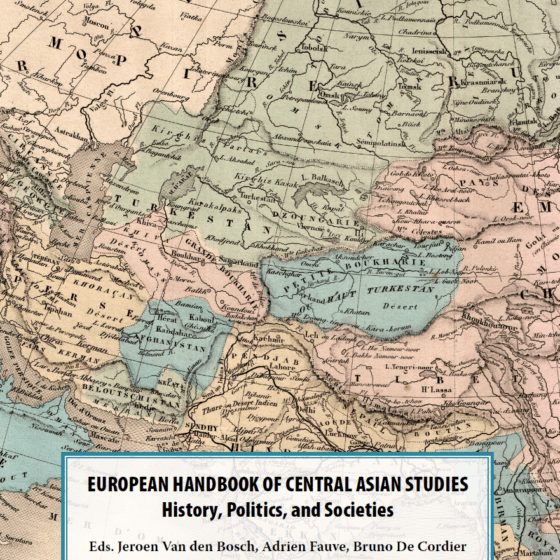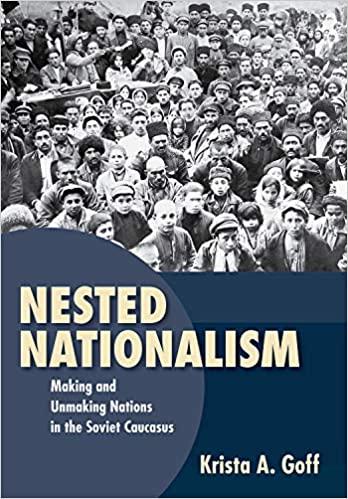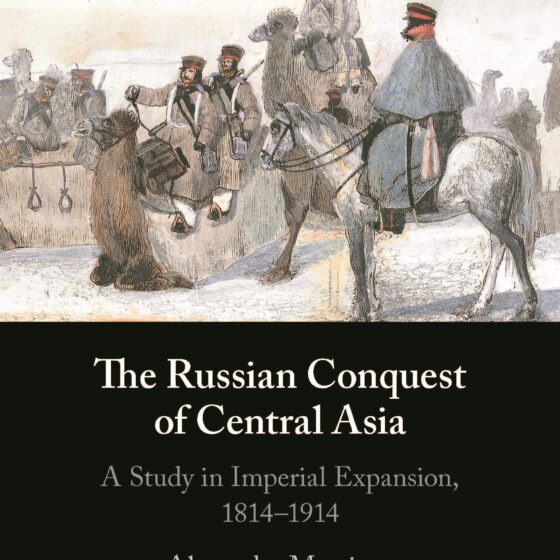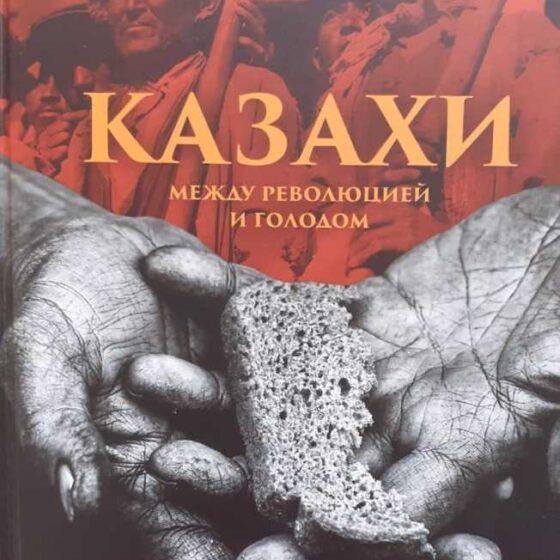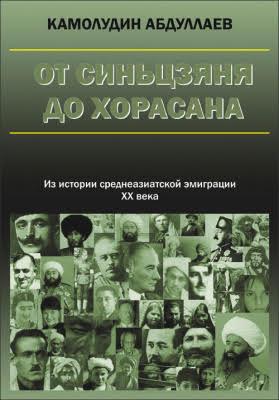Умом Россию не понять… Об антиномичности России много писали и отечественные, и иностранные философы, соглашающиеся, что изучение России, особенно извне,– непростое дело. Специфика общества, которое, хотя и схоже по своим социально-экономическим характеристикам с другими, имеет свою мозаику культурных символов и моделей социальных взаимодействий, может сбивать с толку. Ситуация может быть еще более сложной, если объект исследования – такая зыбкая тема, как евразийство, довольно популярная идея 1990-х и начала 2000-х годов в России.
Иностранный исследователь может иметь преимущество – взгляд со стороны позволяет увидеть феномен, которые российские исследователи могут пропустить. Но для этого необходимо сохранять непредвзятость и во всяком случае желательно детально изучить интересующий исследователя предмет.
Книга профессора Эдит У. Клоуз, «Russia on the Edge: Imagined Geographies and Post–Soviet Identity (Россия на краю: воображаемые географии и постсоветская идентичность)», Cornell University Press, 2011[1] заинтересовала нас как пример работы, попытавшейся охватить целый набор важных тем на не менее важном отрезке времени, но, в силу недостаточных знаний, ставшей скорее выразителем личных взглядов автора, нежели беспристрастным исследованием.
Автор достаточно хорошо исследовала контекст – социально-политическую обстановку, в которой формируется интеллектуальная и культурная жизнь общества. Клоуз отмечает, что крах СССР стал личной травмой для многих россиян и их страх «имеет как географический, так и психологический смысл. Утратив центральное расположение в рамках советской империи, многие россияне в 1990-х годах опасались, что оказались на краю» [2]. С прямыми ссылками на «воображаемое сообщество» Бенедикта Андерсона[3] автор следует постмодернистским дискурсивным рамкам о национальной идентичности и национальных границах.
Что нас интересует в ее книге, это попытка анализа «евразийства», с которым она сталкивается, когда отмечает «важность пространства в постсоветской идеологической конструкции» [4]. Роль образа пространства в культуре также побуждает Клоуз обратиться к евразийству, его представителям и их взглядам на отношения России с азиатскими странами.
Клоуз справедливо признает, что на протяжении всей современной истории России ее интерес к Азии был мимолетным и в основном был подвержен влиянию западного ориентализма. Следовательно, на протяжении большей части современной истории России российский ориентализм был своеобразной формой русского западничества. «До подъема Японии в конце девятнадцатого века интерес России к азиатским культурам, как правило, шел через западные источники» [5]. Интерес к Востоку, независимый от европейского нарратива, возник в основном только после большевистской революции. Тогда евразийство и появилось как самостоятельное учение. Клоуз не уделяет достаточного внимания этому раннему классическому евразийству, отмечая, что «евразийские дебаты возобновились в 1960-х годах и особенно углубились в 1990-х годах» [6]. Она упоминает Солженицына, но ничего не пишет о Льве Гумилеве, «последнем евразийце», свяывающем довоенное евразийство с нынешним. В фокусе ее повествования – постсоветская идеология и Александр Дугин, один из самых известных представителей евразийства и неоевразийства в России, по крайней мере, в 1990-х годах.
Фото: Изборский клуб
Однако она не столько изучает, сколько обличает Дугина как автора, взгляды которого ей глубоко антипатичны. Обращаясь к Дугину, Клоуз также демонстрирует недостаточные знания советской/российской культуры и общества. Так, она пишет, что Дугин получил «образование в религиозных науках в Московском университете». Дугин никогда не учился в Московском университете, и, конечно, «религиозных наук» в советское время не было. Разумеется, различные религиозные доктрины изучались в контексте антропологии, философии и истории. Тем не менее, никаких «религиозных наук» не существовало, и они появились только в постсоветское время. Несколько позже она отмечает, что «в его работах нет ничего действительно нового». Оригинальность или ее отсутствие – вещь весьма субъективная, но нельзя заранее предполагать, что работы идеологических оппонентов – примитивны по определению.
В описании Клоуз Дугин поддерживает «антиинтеллектуальный, анти-гражданский, исторически отсталый империализм» и имеет «фашистские ценности» [7]. Кроме того, она пишет, что «мировоззрение Дугина сочетает в себе экстремистский религиозно-фанатичный менталитет с консервативным утопическим темпераментом» [8]. Но такое упрощенное суждение о взглядах Дугина – ошибочно. Достаточно нескольких примеров.
«Злодеи Дугина – это целые классы людей – прежде всего евреи и католики, а затем и все те люди на Западе, с которыми Дугин не согласен, кто выступает за гражданские социальные ценности, представительную демократию и рационализм просвещения». Эта цитата должна быть проанализирована более подробно, чтобы продемонстрировать реальное незнание предмета.
В этом повествовании Дугин – нацист. Дугин действительно был под влиянием фашизма/нацизма в начале своей интеллектуальной карьеры и, возможно, впоследствии сохранил частично это увлечение. Следует ли из этого, что он был антисемит? Вряд ли. Дугин четко отличал тех, кого он называл «атлантическими» евреями – циничных материалистов США, от «евразийских евреев» на евразийском/российском пространстве, которые в его работах, конечно, проникнуты духовностью и преданностью русско-советскому имперскому проекту. Клоуз утверждает, что Дугин был настроен против католиков. Это другое неправильное утверждение. Дугин был очарован католической средневековой Европой и часто положительно отзывался о Франции, стране с сильными католическими традициями. По его мнению, Франция вместе с другими странами «старой Европы» Дональда Рамсфелда (министра обороны президента Буша-младшего) является здоровой «евразийской» страной, геополитически и культурно близкой России и, по крайней мере, потенциально, – российской союзницей против «Атлантического» мира США: нужно отметить, что взгляды Дугина по этому вопросу меняются с течением времени. США же – это смертельный враг России/Евразии в представлении Дугина, а враги США – Дугин особенно питает теплые чувства к Ирану – союзники. Можно также отметить, что Дугин некоторое время позитивно относился к Трампу, а впоследствии противопоставил американский народ «мондалисткой элите».
В другом примере Клоуз пишет: «В своих нападках на европейцев Дугин использует промонгольскую антизападную евразийскую терминологию Николая Трубецкого». Азиатизм рассматривается здесь как уничижительный термин, восхваляющий жестокость и геноцид. Связь между дугинским «монголизмом» и его симпатиями к нацизму в 1980-90 гг, казалось бы, самоочевидна и демонстрирует любовь Дугина к тоталитарной брутальности.
Действительно, как отмечали некоторые историки, Гитлер, когда разрабатывал свои планы по отношению к России/СССР, воображал, что нацистские войска поступят с СССР так же безжалостно, как это сделали монголы. Но в основном, нацисты отождествляли монголов с русскими и видели в них «диких азиатов», угрозу европейской цивилизации, которую нацисты (немцы) защищали. Неудивительно, что книга Правдина о монгольском нашествии была довольно популярна в Третьем Рейхе, а план вторжения в СССР было назван в честь Фридриха Барбароссы, средневекового германского короля, участвовавшего в крестовых походах.
Дугин действительно связывал нацизм – в своей собственной интерпретации – с монголизмом, но не потому, что он поддерживал массовые убийства. И чтобы это понять, здесь следует подробнее изучить взгляды князя Трубецкого на монголов. Князь Трубецкой, отпрыск одной из старейших русских дворянских семей, был не только высокообразованным человеком, но и известным европейским лингвистом. Клоуз, отмечая «монголизм» Трубецкого, скорее всего, ссылалась на его работу «Наследие Чингисхана». Тем не менее, эта книга не восхваляет жестокость монгольского завоевания, а нечто совсем иное: Трубецкой высоко оценивает монгольского хана за то, что он вознаграждал людей за высокие моральные качества и предоставлял возможность людям разных вероисповеданий и этнических групп жить вместе в «симбиозе». Таким образом, монгольское «содружество» было своеобразным предшественником СССР. Чингисхан также считал, что люди должны быть «идеократическими», т. е. жить для достижения высоких целей, ставя их выше личных интересов и даже самой жизни. Именно эти элементы «монголизма» привлекали ранних евразийцев и Дугина в первые годы его интеллектуальной эволюции. Именно «идеократические» атрибуты «монголизма» связывали их с Третьим Рейхом, который Дугин считал обществом благородных «идеократов»; нацистская жестокость была просто исключена из нарратива. Интернационалистский «монголизм» также склонял Дугина и других подобных ему фигур, заметных в общественной жизни в 1990-х годах, иногда впадать в своеобразное «духовное арийство», основанное на духовных, а не расовых или этнических основах.
Клоуз пишет, что «существуют два подхода к концептуализации русскости – эссенциалистская и конструктивистская. С одной точки зрения, русские – этнически индоевропейцы, говорят на «чистом» русском языке, придерживаются восточного православного исповедания и лояльны к России, в контексте мифа о Севере, будь то Арктогея Дугина или Славянский Север по Проханову. Другая точка зрения трактует русского человека как гражданина и приветствует «гибридного» человека, который сочетает этническое происхождение с гражданским чувством». Клоуз отмечает, что взгляды Дугина «имеют важное значение, поскольку выражают стремление к высокой национальной самооценке, широко распространенной в сегодняшней Россия».
Это преувеличение. В действительности, Дугин и его сторонники были популярными в 1990-х годах, но их популярность значительно упала в сегодняшней России. Да и в то время она объяснялась не только абстрактной ностальгией по империи – многие россияне действительно полагали, что империя была бременем – но из-за социально-экономических условий: порядок, пришедший на смену советской власти, не принес большинству ничего, кроме снижения уровня жизни и роста преступности. Позже Дугин принял более русскоцентристское видение российской цивилизации; но даже тогда он делал упор на духовно-культурной русскости, а не этнической принадлежности/ расе.
Еще о евразийстве:
Евразия, евразийство, Евразийский Союз: терминологические пробелы и совпадения
Режим Путина и идеологический рынок: неустойчивое равновесие
Евразийство и ультраправые движения Европы. Переформатирование отношений между Европой и Россией

Чтобы подчеркнуть абсурдность евразийских мечтаний, в повествовании Пелевина также появляется Барон Унгерн, красочный авантюрист Гражданской войны прибалтийско-германского происхождения. Он воевал в Сибири и Монголии и, по-видимому, мечтал создать евразийскую империю. В романе он стал своего рода шарадой и превратился в барона Юнгера.
В повествовании Пелевина евразийцы/дугинисты – не столько монстры, сколько своеобразные клоуны, живущие в обществе, где десять заповедей исчезли. Пелевин передал эту идею через аллегорию, которую западным исследователям часто трудно расшифровать. В книге Пелевина Чапаев, легендарный Красный Командир и один из главных героев книги, говорит: «Что меня всегда поражало … это звездное небо под моими ногами и Иммануил Кант внутри нас». Вот что пишет Клоуз: «Здесь Чапаев – преднамеренно или нет – путает Канта и Шопенгауэра. Ссылка на «звездное небо под ногами» на самом деле происходит из эссе Ницше «Шопенгауэр как педагог». Чапаев не нуждается в фиксированном времени и пространстве, они для него – всего лишь сон».
Процитированный отрывок имеет мало общего с Ницше или Шопенгауэром. Пелевин здесь действительно обращается к Канту. Для Канта существование Бога связано с моралью у людей; ее существование, утверждал Кант, можно объяснить только божественным провидением. Оно столь же величественно, по мнению Канта, как звездное небо. Эта идея, как предполагали некоторые советские исследователи, такие как Яков Голосовкер, была известна Достоевскому и была использована им в его «Братьях Карамазовых». В толковании Голосовкера («Достоевский и Кант: Размышления читателя о романе Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“ и трактате И. Канта „Критика чистого разума“») тот факт, что один из главных героев книги участвовал в убийстве отца, указывает на то, что и морали, и, следовательно, Бога нет. В истории Пелевина присутствие звезд в грязной луже указывает на то, что нравственные максимы в современной России – всего лишь оптическая иллюзия, мираж.
Но и Запад у Пелевина не несет никакой позитивной альтернативы. Линия Марии и Арнольда Шварценеггера в символическом плане изображает брак России с Западом. Мария, русская девушка, является символом наивных россиян, которые верили в доброту американцев и вообще идеализировали США. «Мария фантазирует о том, чтобы пролететь над Москвой с Арнольдом Шварценеггером». Ее герой не просто выглядит сильным, но и гуманным человеком – символом американской цивилизации; и его гуманизм и моральный стержень подчеркнуты тем фактом, что он делал «политически правильные» заявления. Он признавал «права сексуальных меньшинств, слегка иронизировал в отношении феминизма и спокойно осознавал окончательную победу демократии и иудео-христианских ценностей». В реальности, однако, Шварценеггер – символ США – это холодная и расчетливая машина. «Он робот с линзой. В самой середине объектива вспыхнул луч ослепляющего красного света – прямо в глаза Марии». При этом образ США у Пелевина весьма негативен, а американцы, особенно те, кто прибыли на территорию бывшего Советского Союза, предстают как люди, эксплуатирующие Россию. В своем романе «Жизнь насекомых» Пелевин изображает бизнесмена США Сэма Сукера, прибывшего в Крым, который превращается в комара и метафорически сосет кровь туземцев. Антизападный нарратив Пелевина, тем не менее, оказался менее понятным для Клоуз.
Тем не менее, Клоуз правильно отмечает новую тенденцию в русской мысли: «Географическая ось русской идентичности сместилась от традиционной восточной и западной оси к оси, соединяющей северных колонистов с колонизированным югом». Это изменение обусловлено усилением распада «евразийского»/советского наследия и растущим числом россиян, формирующих сильное чувство национальной идентичности, свободное от «евразийского»/советского трансэтнического/транскультурного наследия. В этом контексте люди с Кавказа уже не «евразийцы», «советские люди», а чуждая и опасная сила, прислуживающая другим чуждым меньшинствам – евреям; «мусульмане с Кавказа» выделяются как «сильные и самоуверенные, в отличие от сомневающихся, ослабленных, обедневших русских».
Объект исследования Клоуз, Александр Дугин, вряд ли стал более понятен ее читателям. Автор часто поверхностно анализирует культурно-социальную среду, породившую как дугинизм, так и противоположные культурные направления. Анализ автором Дугина 1990-х годов эмоционален, сведен к ad hominem, низводя Дугина до неонациста, расиста, примитивного фанатика. Культурный фон, породивший евразийство, практически проигнорирован. Клоуз обошла связь Дугина и Трубецкого – или связь между евразийцами в эмиграции и современными неоевразийцами. Авторский анализ часто поверхностен. Например, более глубокий анализ мог бы показать, что увлечение евразийцев и неоевразийцев монголами связано с умением монгольской империи проводить «симбиоз» разных культур и этнических групп, а не с прославлением деспотизма и брутальности.
Проблемы россиян не сводились к абстрактной имперской ностальгии, а были связаны и с резким снижением уровня жизни, ростом преступности и поведением элиты, цинично разграбившей национальное богатство. Антидугинские авторы были критичны не только к Дугину и имперским фантазиям, но к прозападной идеологии.
И хотя книга Эдит У. Клоуз сделала попытку понимания контекста 1990х, она вряд ли может объяснить последствия – современные реалии России. Игнорирование реалий, жизни и чувств большинства – проблема большинства иностранных интеллектуалов, которые не всегда обращают внимание на закрытые заводы и шахты, медленную деградацию экономики, безработных, нищих и жалких людей – «deplorables», если вспомнить выражение Хиллари Клинтон, которые сегодня стоят за процессами не только в России, но и в США.
Перевод с английского
Сноски:
[1] Edith W. Clowes, Russia on the Edge: Imagined Geographies and Post-Soviet Identity, Cornell University Press, 2011, p. 4.
[2] Ibid., p. xiii.
[3] Ibid., p. 10.
[4] Ibid., p. 3.
[5] Ibid., p. 13.
[6] Ibid., p. 15.
[7] Ibid., p. 53.
[8] Ibid., p. 54.