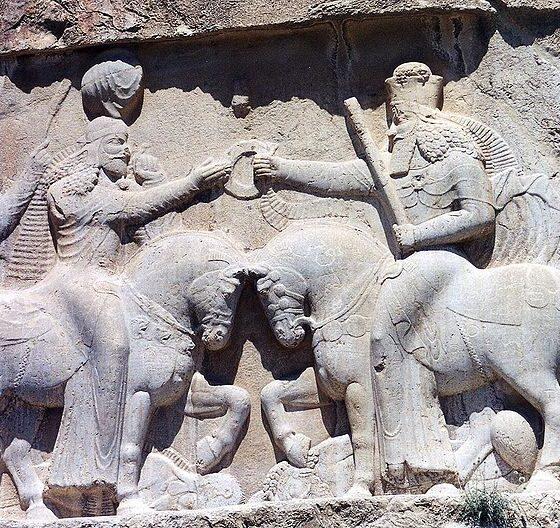В условиях экономической стагнации российское государство нуждается в социальном консенсусе и народной поддержке президента Путина. Развернув на полную мощь в первый год украинского кризиса антизападную пропаганду, режим затем намеренно снизил националистическую риторику, отстранил радикальные националистические фигуры, ставшие слишком заметными и недостаточно надежными, отправил в отставку нескольких старых друзей Путина и вернул некоторых либералов назад в политику. Кремль продолжает продвигать разнообразный идеологический репертуар, сочетая противоречащие друг другу доктрины и исторические нарративы под широкой и размытой эгидой консервативных ценностей. Несмотря на то, что администрация президента успешно управляет этим догматическим многообразием, в некоторой степени сохранить устойчивое равновесие остается сложной задачей, особенно, для сдерживания более или менее российского национализма и управления потенциальной мобилизацией в поддержку или оппозицию политическому статус-кво.
Режим Путина и идеологический рынок: неустойчивое равновесие
Марлен Ларюэль
Публикация осуществлена в рамках проекта Группы по политике США в отношении России, Украины и Евразии
Перевод – Putin’s Regime and the Ideological Market: A Difficult Balancing Game, Carnegie Endowment for International Peace, 16 Mar 2017
В условиях экономической стагнации российское государство нуждается в социальном консенсусе и народной поддержке президента Путина. Развернув на полную мощь в первый год украинского кризиса антизападную пропаганду, режим затем намеренно снизил националистическую риторику, отстранил радикальные националистические фигуры, ставшие слишком заметными и недостаточно надежными, отправил в отставку нескольких старых друзей Путина и вернул некоторых либералов назад в политику. Кремль продолжает продвигать разнообразный идеологический репертуар, сочетая противоречащие друг другу доктрины и исторические нарративы под широкой и размытой эгидой консервативных ценностей. Несмотря на то, что администрация президента успешно управляет этим догматическим многообразием, в некоторой степени сохранить устойчивый баланс остается сложной задачей, особенно, для сдерживания более или менее российского национализма и управления потенциальной мобилизацией в поддержку или оппозицию политическому статус-кво.
Вместо разработки новой доктрины в стиле вымершего марксизма-ленинизма администрация президента сосредоточилась на формировании мировоззрения населения через контроль над СМИ
Идеологический ландшафт Кремля: явный консерватизм, скрытые доктринальное многообразие
Во время первого президентского срока Путина (2000-2004 годы) администрация президента отрицала необходимость в государственной идеологии. Путин называл себя неидеологическим человеком, заявляя, что работает исключительно в соответствии с технократическими целями[1]. В 2003 году власти обсуждали создание совета по национальной идеологии для созыва крупных интеллектуальных и культурных деятелей, но проект не привел к ничему конкретному и вызвал мало энтузиазма среди государственных органов[2]. Однако цветные революции, в особенности “оранжевая революция” 2004 года в Украине, бросили вызов неиделогической позиции государства; режим принял решение перейти к более последовательной идеологической позиции во избежание революции в самой России. Борис Грызлов, в то время председатель государственной думы и лидер президентской партии «Единая Россия», выразил контрреволюционный характер такого изменения модели: «Это — опора на средний класс, действия в интересах этого класса, отстаивание интересов тех, кому не нужны никакие революции — финансовые, экономические, культурные, политические, „оранжевые“, „красные“ (коммунистическая), „коричневые“ (фашистская) или „голубые“ (гомосексуальная)[3]».
Новая идеология, продвигаемая президентской администрацией, уже в 2005 году получила лейбл консерватизма, смежного с социальным консерватизмом или российским консерватизмом[4]. Этим термином Кремль стремился противопоставить свою центристскую идеологию обеим формам экстремизма – либерализму и коммунизму, одновременно нанеся удар по самому принципу революции, которую обвиняли в нанесении серьезного ущерба и замедлении модернизации в России в 1910-е и 1920-е гг., а также в 1990х годах.
После возвращения Путина на пост президента в 2012 году администрация президента сделала свою консервативную позицию официальной. Она приступила к заказу работ по консервативной идеологии в нескольких аналитических центрах, которым было поручено разработать определенный набор ориентиров. Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) стал основной главной группой, занимающейся разработкой идей консерватизма, изданием альманаха (Тетради по консерватизму) и организацией Бердяевских чтений.
Сам Путин неоднократно упоминал консерватизм. На саммите G20 в 2013 году он описал себя «прагматиком с консервативной точкой зрения», который всегда учитывает «уроки из далекого и недавнего прошлого»[5]. Несколько месяцев спустя он заявил:
Точка консерватизма заключается не в том, что она препятствует движению вперед и вверх, а предотвращает движение назад и вниз. Это, на мой взгляд, очень хорошая формула, и это формула, которую я предлагаю. Здесь нет ничего необычного. Россия – страна с очень глубокой древней культурой, и если мы хотим чувствовать себя сильными и расти с уверенностью, мы должны опираться на эту культуру и эти традиции, а не просто сосредотачиваться на будущем[6].
Эта консервативная доктрина, хотя и часто упоминается, остается в значительной степени недоработанной. Действительно, вместо разработки новой доктрины в стиле вымершего марксизма-ленинизма администрация президента сосредоточилась на формировании мировоззрения населения через контроль над средствами массовой информации, особенно телевидения, печатных СМИ и, все чаще, интернета. Данное мировоззрение не доктринальное, а скрытое, оно, например, преподносится через гламуризированный имидж личности Путина, направлено на маргинализацию и делегитимизацию тех, кто оспаривает режим, но остается достаточно расплывчатым, чтобы привлечь большее количество сторонников.
Администрация президента преуспела в разработке определенной, но в то же время размытой формы консерватизма, характеризующейся антизападничеством, антилиберализмом и пропагандой традиционных моральных ценностей, предлагая скрытое идеологическое разнообразие, доступное для массового восприятия
Таким образом, данное мировоззрение играет роль самого общего знаменателя, оставляя место для гордости за обновленный международный статус страны и патриотизма, основанного на общих, но размытых советских ценностях. Оно обеспечивает широкий репертуар для коллективного потребления: оно позволяет человеку чувствовать ностальгию по Советскому Союзу или царской Российской империи и считать Ивана Грозного, Николая II, Петра Столыпина, Владимира Ленина, Иосифа Сталина или Юрия Гагарина самыми важными героями в истории страны. Кто-то может желать, чтобы православное христианство стало государственной религией, а кто-то – радоваться светской природе государственных учреждений и прославлять религиозное разнообразие страны. Кто-то может желать видеть Россию как страну этнических русских в постоянной борьбе за выживание против меньшинств, а кто-то – праздновать многонациональную гармонию страны. Поддерживать абсолютный изоляционизм или восхвалять приверженность России к созданию многополярного мира со своими союзниками. Желать воскрешения панславизма среди православных славянских братьев или евразийства с тюркоязычными странами, так называемого «русского мира» русских диаспор или модели, основанной на Византии или современном Китае[7].
Таким образом, администрация президента преуспела в разработке определенной, но в то же время размытой формы консерватизма, характеризующейся антизападничеством, антилиберализмом и пропагандой традиционных моральных ценностей, предлагая скрытое идеологическое разнообразие, доступное для массового восприятия. Эти доктрины разрабатываются различными группами предприимчивых идеологов, которые имеют возможность выражать свои предпочтения и развивать свои собственные сети. Их инициативы постоянно обсуждаются и оспариваются конкурирующими группами и самой президентской администрацией. Подобно тому, как империя олигархов не защищена и остается зависимой от индивидуальной преданности, империя этих идеологических предпринимателей также нестабильна и может быть оспорена и расколота.
Спектр предложений, доступных на идеологическом рынке, можно схематично разделить на две основные категории. “Красная” программа, включающая в себя элементы, заимствованные из советского прошлого, ссылки на евразийство и относительно антизападное позиционирование, работает под патронажем военно-промышленного комплекса (долгое время контролируемого директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным) и энергетического сектора (под руководством исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина)[8]. Вторая конкурирующая группа пропагандирует так называемую «белую» программу, которая состоит из ссылок на царскую Россию, православное христианство и белую эмиграцию, и продвигается Московской Патриархией, православными предпринимателями, такими как Владимир Якунин и Константин Малофеев, а также общественными деятелями как, например, режиссер Никита Михалков[9]. Обе группы мощные: военно-промышленный комплекс лучше структурирован и интегрирован в государственную администрацию. Хотя так называемые «белые ностальгические», менее институционализированы и, в основном, опираются на личные и родственные связи, у них есть влиятельные покровители, и они явно продвинулись за последние несколько лет.
Гибкость идеологических предложений Кремля подтверждает принципиально инструментальный характер идеологии для российского руководства: власти хотят избежать чрезмерно жесткой позиции, которая могла бы ограничить их свободу действий – они предпочитают иметь возможность переключаться с одного регистра на другой без необходимости брать на себя ответственность за это. Таким образом, без каких-либо противоречий Кремль может манипулировать формулировками так называемого «русского мира», чтобы вести диалог с российскими диаспорами и оправдать аннексию Крыма, одновременно продвигая евразийскую программу для центральноазиатских государств. Обе программы выдвигаются разными лицами внутри режима, направлены на различную аудиторию и говорят на разных уровнях российской внешней политики, представляя несколько точек зрения на то, какой может быть мягкая сила России.
Национализм – единственный доктринальный элемент, который власти могут пропагандировать, но до сих пор были очень осторожны в его распространении
Неизвестный образ российского национализма
В этом широком идеологическом разнообразии один вопрос остается чувствительным для Кремля: русский национализм. Национализм – единственный доктринальный элемент, который власти могут пропагандировать, но до сих пор были очень осторожны в его распространении[10]. Укрепление консерватизма создает гораздо более упрощенную идеологическую основу, поскольку она вызывает протесты лишь небольшого меньшинства либералов, которые в значительной степени изолированы от остальной части общества и в основном находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Российский национализм представляет собой более рискованный инструмент, способный вызвать сильную реакцию со стороны 20 процентов населения, которое не считает себя этнически русским и принадлежит к национальным меньшинствам[11]. Он также грозит стать мобилизирующим лозунгом против режима для некоторых этнически русских движений[12].
До сих пор Кремль успешно вёл балансированную игру. Он всегда играл с параллельными понятиями, поддерживая многонациональность русского народа и одновременно возвеличивая русскость культурных и исторических символов России. В 2000-х годах возрождение патриотизма, спонсируемое государством, основывалось на советских символах – в основном на событиях Второй мировой войны – и поэтому касалось этнических и неэтнических русских. Однако постепенная реинтеграция царского прошлого, почтение исключительно русских героев (таких, как Дмитрий Донской или Александр Невский), открытие первого в России памятника Ивану Грозному и визуальное присутствие Русской православной церкви привели к некоторому дискомфорту в среде неэтнических русских.
Некоторые исторические почитания привели к явным конфликтам, когда, например, одни празднуют так называемое мирное присоединение народов к Российской империи, в то время как местные историографии видят в этом колониальную экспансию России. Приоритет, отданный православию, вызывает более неоднозначную реакцию. Мусульманское руководство разделилось: духовное управление мусульман в Уфе поддерживает православное господство, при условии, что ислам получает статус вторичной религии и имеет патриарший доступ – или, по крайней мере, может получить доступ, хотя не всегда успешно – к школам, армиям и правовой системе в республиках с мусульманским большинством. Другие учреждения, такие как Совет муфтиев Москвы, не скрывают свою более критическую позицию, требуя большего уважения к секуляризму и одновременно подталкивая мусульманское сообщество к самоорганизации (например, вокруг растущего бизнеса халяльных продуктов).
На сегодняшний день Кремль успешно осуществляет свою стратегию сохранения неустойчивого равновесия. С обычно редкими и всегда локальными трениями, этнические меньшинства не оспаривают верховенства символов русскости в обществе, и у них (как отдельных лиц, так и коллективных групп) есть достаточно возможностей для маневра в противоречивой среде. Они могут отождествлять себя с теми, кого они считают представителями России в целом, а также игнорировать тех, кого они считают слишком этнически русскими, и продвигать своих на местах.
Для Кремля, с точки зрения национализма, потенциальная проблема исходит не от неэтнических русских, но от этнически русского большинства
Этот успех объясняется несколькими причинами. Во-первых, этнические меньшинства России не представляют собой единую группу интересов. Если они и проявляют озабоченность в том, как отделить понятия русский (в этническом и языковом смысле) от того, что является российским (в гражданском и государственном смысле), и до конца будут настаивать на более широком использовании понятия “российский”, то на этом их единство и прекращается. Сибирские этнические группы имеют мало общего с татарами и башкирами, и тем более с северокавказцами. Последние представляют особый политический орган в России, от которого этнические меньшинства отчуждены в той же степени, что и этнические русские. Во-вторых, социологические данные показывают, что этнические меньшинства не представляют надлежащую политическую общность; наоборот, они воплощают среднего российского гражданина[13]. Поскольку этнические республики более активно пользуются административными ресурсами, чем многие регионы, не имеющие этнической принадлежности, в особенности Москва и Санкт-Петербург, они являются самым надежным источником голосов для Единой России и укрепляют консервативную позицию Кремля. Этнические меньшинства голосуют больше за кандидатов режима, чем этнически русский средний класс, и они широко поддерживают аннексию Крыма, видя в этом возмездие за распад Советского Союза, а не свидетельство этнического национализма в России[14].
Следовательно, для Кремля, с точки зрения национализма, потенциальная проблема исходит не от неэтнических русских, но от этнически русского большинства. С начала 90-х годов этнические русские националистические движения в основном были маргинализированы. Они часто были связаны с экстремальными политическими движениями, слишком радикальными в своей идеологии, чтобы привлечь какую-либо народную поддержку. Даже те, кто опирался на русско-центричные идеи черносотенцев, антисемитских и погромных движений начала XX века, не могли получить никакой последовательной поддержки, а те, кто ссылался на европейский фашистский опыт, получали еще меньше.
Все изменилось в 2000-х годах, когда национализм перешел от идеологии с ограничительным доктринальным содержанием к поведению, проявляемом в основном в ксенофобских заявлениях, и иногда – в межэтническом насилии. Это можно объяснить, как общей реакцией на изменения в местной социальной структуре, вызванных массовыми трудовыми миграциями, так и появлением нового поколения националистических лидеров, которые отказывались участвовать в слишком завуалированных доктринальных дебатах и отдавали предпочтение консенсусной антимигрантской позиции. Ксенофобское насилие олицетворялось ростом групп скинхедов, имевших до 50,000 сторонников в середине 2000-х годов[15].
Однако этнические беспорядки 2006 года в Кондопоге (в Республике Карелия), которые воодушевили националистические движения, обрадовавшихся долгожданному «пробуждению русского народа», а также перестрелки между группами скинхедов и силами безопасности привели к тому, что власти постепенно приняли более репрессивную политику. Они отказались от подхода laissez-faire к группам скинхедов, преобладавшего до этого среди спецслужб и полиции, и стали больше применять имеющиеся в их распоряжении правовые инструменты, в частности статью 282 Уголовного кодекса “О возбуждении ненависти либо вражды”. Расистское насилие значительно снизилось, особенно в Москве и Санкт-Петербурге[16]. Однако, хотя насилие со стороны скинхедов уменьшилось, межэтнические столкновения между молодыми группами, в частности этническими русскими и северо-кавказцами, увеличились, и несколько бунтов потрясли страну в период между 2010 и 2013 годами[17]. С тех пор антимигрантские бунты также сократились в частоте в результате совокупного воздействия более репрессивной политики властей и изменения общественного мнения России от антимигрантских к антизападным настроениям после кризиса в Украине в 2014 году.
Жесткое проявление русского этнонационализма ставит перед Кремлем двойной вызов. Во-первых, оно создает разделительную черту среди населения и потенциально ведет к сепаратизму; для российского руководства, как и для всего остального общества, сепаратизм – это длительная травма, связанная с воспоминаниями о распаде СССР. Во-вторых, существуют проблемы, связанные с потенциальной мобилизацией, которая может привести к действиям против статуса-кво. Первая проблема весьма ограничена. Социальное негодование среди мусульманского населения ныне проявляется через исламизм, а не через постколониальные призывы к отделению и независимости[18]. Если есть движущие силы, способные привести к фрагментации России, они скорее будут определяться экономическими реалиями – например, экономическими взаимодействиями российского Дальнего Востока с Китаем, Японией и Южной Кореей, – а не этническими проблемами[19]. В случае распада центральной власти в Москве, экономическая и политическая децентрализация не обязательно приведет к территориальному разделению[20].
Вторая проблема является гораздо более серьезной, так как ставит под угрозу сам режим. Действительно, ксенофобия – это лишь верхушка айсберга социального нездоровья, связанного с социально-экономическими преобразованиями, повсеместным ощущением, что уровень жизни уже не растет, и растущим недовольством системной неэффективностью государства[21]. Во время межэтнических беспорядков 2010-2013 гг. демонстранты жаловались, что мигранты создают законы и местные жители больше не чувствуют себя дома – две распространенные формулировки ксенофобских настроений для любой точки мира. Однако они также критиковали коррупцию среди сил безопасности и муниципальных властей.
Эта критическая тенденция уже просматривалась в Русских маршах 4 ноября, которые с 2010 года продвинулись в создании более структурированных лозунгов против политической системы Путина («Путин, уходи», «прекратить силу КГБ», «долой суверенную демократию», «долой полицейское государство» и «свободу политзаключенным»)[22]. В 2011 году Русский марш, с участием адвоката по борьбе с коррупцией и видного политического активиста Алексея Навального, непреднамеренно стал своего рода объявлением декабрьских протестов. Он продемонстрировал силу так называемых национальных демократов, русских националистов, которые стоят на стороне либералов против режима Путина, и призывают Россию следовать европейской, демократической модели развития. До национальных демократов Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ), которое было распущено властями в 2011 году, пыталось воспользоваться волной ксенофобии, создав новую политическую организацию, чтобы конкурировать с президентской партией. ДПНИ выдвинул крайне правый популизм, вдохновленный Западной Европой, призывающий к новому русскому национализму, «не с бородой и огромными сапогами, а в костюме и галстуке»[23].
До сих пор Кремлю удавалось консолидировать пассивный патриотизм, но не активный патриотизм
Отношения Кремля с российским этнонационализмом сложны и базируются на постоянных колебаниях между мобилизацией и демобилизацией населения. Демобилизация, по-видимому, является самой простой политической стратегией для сохранения статуса-кво, основанной на подразумеваемом договоре, позволяющем элитам управлять политикой, в то время как граждане управляют своей жизнью без (чрезмерного) вмешательства государства. Этот социальный договор по-прежнему действует и сегодня: социологические опросы Центра Левада показывают высокий уровень недоверия населения к государственным учреждениям и политикам (Путин не считается частью политического ландшафта; он является символической, культовой фигурой нации и, следовательно, имеет большую поддержку), и общее мнение гласит, что политика – коррумпированный и грязный мир, от которого лучше держаться подальше. Но власти также нуждаются в мобилизации. Кремль надеется, что авангард – граждане, активно участвующие в защите ценностей режима, – покажет правильный путь остальному обществу. Этот авангард можно поощрять и демонстрировать как положительный, вдохновляющий элемент в том, что иначе выглядит как циничные и обособленные отношения между государством и обществом. До сих пор Кремлю удавалось консолидировать пассивный патриотизм – пассивную поддержку режима и маргинализацию конкурирующих сил – но не активный патриотизм.
Таким образом, инструментализация русских националистических групп была заманчивым вариантом для Кремля. После «оранжевой революции» администрация президента решила инвестировать в молодых людей и мобилизовать их в пользу режима. Движение «Наши» стало наиболее заметным пропрезидентским молодежным движением на внутригосударственной и международной арене, имевшего на пике своего развития в 2008 году около 100 000 сторонников и 8 000 постоянных активистов[24]. Кремль позволил «Нашим» и другим молодежным движениям, таким как «Молодая гвардия Единой России», двусмысленно играть с чувствами протеста и ощущением конфликта поколений среди молодежи среднего класса и с ксенофобскими темами, связанными с трудовыми мигрантами.
Администрация президента и некоторые подразделения служб безопасности также были скрытыми покровителями более радикальных националистических групп, в том числе скинхедов, создавая такие группы, как «Русский Образ» и надеясь направлять потенциальное недовольство в нужное русло и сохранять контроль над уличными движениями. Поддерживая возрождение военизированного патриотического воспитания в советском стиле, российские власти также косвенно поддержали «вигилантизм» – движение, объединяющее радикальные националистические группы, которые готовят молодежь к войне, клубы смешанных единоборств и православные уличные патрули. Эти группы склонны действовать в качестве правоохранителей без законных полномочий, нарушая общественные собрания своих предполагаемых противников, от либеральных до гей-парадов, и пытаясь установить моральный порядок в общественных местах России.
Такая же двойственность в отношении мобилизационного потенциала российского этнонационализма была заметна в первые месяцы украинского кризиса, когда Кремль предоставил серое пространство для участия добровольцев в повстанческом движении Донбасса, прежде чем привлечь профессиональные войска. Динамика, созданная кризисом в Украине, продемонстрировала успех и провал попыток Кремля канализировать русские националистические группы в нужном русле: они пытались воспользоваться мобилизационными возможностей снизу, но Кремль был вынужден срочно помешать им, поскольку их повестка дня была слишком революционной и неуправляемой для целей властей. Российские националистические группировки не скрывают своего разочарования стратегией Кремля, которую они считают слишком нерешительной и половинчатой, а сами власти могут и проиграть свою собственную игру своим же радикальным группам, которые взамен потенциально могут поставить под угрозу их легитимность.
Может ли этнонационализм играть в пользу нынешнего режима? Как может вероятный рост массового национализма, сформированный ксенофобскими настроениями, взаимодействовать с поисками режимом народной поддержки?
ЧТО ВПЕРЕДИ?
Нынешний режим в России не является статичным с точки зрения идеологии. Он смог активизировать интенсивные националистические настроения во время украинского кризиса и усмирить их позже, не подрывая личную легитимность Путина и народную поддержку. В условиях экономического кризиса и отстранения государства от многих государственных услуг, Кремль вернул в политику некоторые фигуры с более либеральной позицией, таких, как бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого Путин попросил разработать новую экономическую стратегию для России и назначил заместителем председателя экономического совета президента, а также Сергей Кириенко, который через десять лет после управления Росатома, стал заместителем главы администрации президента. Путин также решил почистить свою старую команду, заменив такие постоянные фигуры, как Сергей Иванов и Владимир Якунин. Появились другие личности из молодого поколения: первый заместитель главы президентской администрации Вячеслав Володин. Таким образом, в режиме Путина нет ничего статичного: он демонстрирует достаточную гибкость, заменяя старшие поколения более молодыми, что лишь частично можно сравнить, например, с массовой ротацией элит и поколений в Китае, а также реинтегрируя либеральные фигуры после культивации националистической атмосферы. Действительно, оба эти видения вполне совместимы, поскольку можно представить себе неолиберальную экономику, действующую рука об руку с более националистической идеологией.
Однако возникает вопрос, будет ли новое поколение, которое, похоже, появилось на вершине политической пирамиды, придерживаться той же идеологической стратегии сохранения разнообразия доктрин, предлагаемых российскому обществу. Будут ли некоторые идеологические ценности более укорененными и структурными, или же гибкость по-прежнему будет руководящим принципом? Вероятно, консервативный бренд, разработанный режимом, останется основой его идеологических инструментов. Это позволяет сохранить общественный консенсус страны на основе относительно скрытых механизмов и ценностей, что тем более необходимо в период экономической стагнации, когда пассивность общества и его отказ от участия в политике играют центральную роль в поддержании статус-кво режима.
Более того, консервативный бренд Путина стал реальным успехом во внешней политике, что позволило России найти общий язык со многими странами вне Запада и усилить свою мягкую силу в Европе и, в меньшей степени, в Соединенных Штатах. Смешение консервативных ценностей с недоверием к международным структурам и так называемому либеральному мировому порядку, похоже, продолжит играть роль на международной арене в ближайшие годы, а Россия внезапно получает влияние и признание, критикуя либеральный Запад и выражая симпатию консервативному Западу.
Кроме консерватизма, получат ли другие доктрины больше признания со стороны режима? Это кажется маловероятным, поскольку это создало бы напряженность между элитами и группами, которые они поддерживают, и это усугубило бы раздвоение в российском обществе в то время, когда единство так необходимо. Скорее всего, разнообразие идеологических предложений останется нормой. Акции в память о падении царизма в 2017 году и февральской и октябрьской революции являются хорошими примерами для анализа того, как режим управляет множественными нарративами, направленными на разные аудитории, сохраняя при этом разнообразие и даже противоречие памяти.
Идеология “белых” ностальгиков со временем стала более популярной, и влияние Православной церкви растет благодаря всеобщему вниманию к морали и ценностям. Патриарх Кирилл решил не присутствовать на речи Путина в связи с аннексией Крыма, чтобы сохранить статус Московского Патриархата над своими украинскими приходами, но сам акцент на Крым и необходимость узаконить его аннексию, как колыбель христианства в России, подразумевают значительную зависимость Кремля от этого христианского репертуара. Путин и Кирилл оба присутствовали на открытии огромной статуи святого Владимира, недалеко от стен Кремля в ноябре 2016 года. Тем не менее, этот “белый” репертуар вряд ли заменит широкую поддержку ребрендированной советской ностальгии.
Более того, если два дискурса противоречат друг другу в некоторых своих интерпретациях прошлого, особенно в отношении большевистской революции, они могут также парадоксально и дополнять друг друга. Это применимо, например, к памяти о сталинизме: возрастающая роль Православной церкви в каждом почитании сталинского прошлого и неприятие либеральных общественных организаций, таких как правозащитная организация «Мемориал», позволяют выработать приемлемый нарратив сталинизма, олицетворяющего пик великодержавного статуса России, в то же время сожалея о государственном насилии, совершенном против граждан того времени. Хотя осуждение сталинистов со стороны либералистов подразумевает косвенную критику нынешнего режима, подход церкви не только избегает упреков, но, напротив, восхваляет режим за его превосходные моральные ценности.
До сих пор Кремль умело управлял многочисленными идеологиями в своем распоряжении. Хотя сторонние наблюдатели сомневаются в политической сплоченности российского государства, более детальное рассмотрение множественности доктрин говорит о силе режима. Из-за его размера, этнического разнообразия и очень разновидных социальных реалий, любой вид единого нарратива может поставить под угрозу нынешний режим. Консервативное повествование объединяет, националистическое – разделяет.
Однако в среднесрочной перспективе демография России может сыграть в пользу растущего российского этнонационализма[25]: Как в Европе, нарратив о белой, христианской Европе, защищающей свои ценности, и о снижающейся демографии из-за мигрантов и исламизма, мог бы стать доминирующим дискурсом для русского населения.Таким образом, политическому руководству так или иначе придется принять его. В случае новых протестов против Путина, русские националисты могут сыграть решающую роль в предоставлении идеологического связующего звена, необходимого для построения последовательного антирежимного дискурса: они могли бы связать государственную коррупцию, преступность среди этнических меньшинств и мигрантов, бесконечные запросы на государственные субсидии на Северном Кавказе, в единую историю о том, что режим не заботится о русском этническом большинстве и его потребностях.
Может ли этнонационализм играть в пользу нынешнего режима? Как может вероятный рост массового национализма, сформированный ксенофобскими настроениями, взаимодействовать с поисками режимом народной поддержки? Одним из правдоподобных сценариев может быть рост знаковой фигуры во власти, например, вице-премьера Дмитрия Рогозина, который сможет предотвратить поляризацию российского этнонационализма в анти-режимное направление и использовать некоторые из его лозунгов и лидеров, чтобы постепенно поставить официальную позицию на рельсы более контролируемого государством национализма. В этом случае этнонационализм стал бы поддержкой для Кремля. Однако, это в свою очередь может ускорить идентификацию номинально мусульманского меньшинства с исламом и проведет символическую разделительную линию между этническими русскими и мусульманами.
С девятнадцатого века история русского национализма – это история кооптации государственными властями тем и лидеров, а также взаимодействия с некоторыми слоями населения. Тем не менее, кто бы ни сумел захватить мобилизационный потенциал русского этнонационализма должен будет, когда придет к власти, поддерживать государственно-ориентированный подход в качестве основы. Только сосредоточие на государстве, как воплощении множественных идентичностей России, позволяет удержать центристскую позицию, чтобы избежать чрезмерно радикального этнонационализма, способного разрушить единство страны, и сохранить согласованное развитие России как великой державы, имеющей право голоса по будущему мира.
Марлен Ларюэль является соруководителем PONARS-Eurasia и научным профессором Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) в Школе международных отношений имени Эллиотта Университета Джорджа Вашингтона.
Ссылки:
[1] Stephen Hanson, “Instrumental Democracy: The End of Ideology and the Decline of Russian Political Parties,” in The 1999–2000 Elections in Russia: Their Impact and Legacy, eds. Vicki L. Hesli and William M. Reisinger (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 163–185.
[2] “Прочат в главы совета по национальной идеологии,” BusinessPress.ru, December 8, 2003, http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_33_aId_286900.html.
[3] Борис Грызлов, “У Единой России крыльев не будет,” Русская линия, 23 апреля 2004, http://www.rusk.ru/st.php?idar=150593.
[4] Борис Грызлов, “Современный российский консерватизм,” Центр социально-консервативной политики, 7 декабря 2007, http://www.cscp-pfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=34; “Идеология Партии основана на консерватизме,” Дагестанская Правда, 17 декабря 2008.
[5] “Интервью Первому каналу и Associated Press News Agency,” сайт Президента России, 4 сентября 2013, http://en.kremlin.ru/events/president/news/19143.
[6] “Пресс-конференция Владимира Путина,” сайт Президента России, 19 декабря 2013, http://en.kremlin.ru/events/president/news/19859.
[7]Marlene Laruelle, “Russia as an Anti-Liberal European Civilization,” in The New Russian Nationalism: Between Imperial and Ethnic, eds. Pål Kolstø and Helge Blakkisrud (Edinburgh: Edinburgh University Press), 275–297.
[8] More in Marlene Laruelle, “The Izborsky Club, or the New Conservative Avant-Garde in Russia,” Russian Review 75, no. 4 (2016): 626–644.
[9] По Малофееву наиболее полную биографию можно найти на сайте «Справка: Малофеев Константин Валерьевич», «Комитет народного контроля», http://comnarcon.com/444. На английском, есть: Ilya Arkhipov, Henry Meyer, and Irina Reznik, “Putin’s ‘Soros’ Dreams of Empire as Allies Wage Ukraine Revolt,” Bloomberg, June 15, 2014, https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-15/putin-s-soros-dreams-of-empire-as-allies-wage-ukraine-revolt.
[10] Недавнее обсуждение этой темы в статье Пола Гобле, “Russian National Identity and the Ukrainian Crisis,” Communist and Post-Communist Studies49, no. 1 (2016): 37–43.
[11] Paul Goble, “2010 Census Shows Fewer Russians, More Non-Russians, and Many Who No Longer Declare an Ethnic Identity At All,” Eurasia Daily Monitor 9, no. 223 (December 6, 2012): https://jamestown.org/program/2010-census-shows-fewer-russians-more-non-russians-and-many-who-no-longer-declare-an-ethnic-identity-at-all/.
[12] Ежегодные опросы Левада-Центра показывают, что более половины респондентов поддерживают лозунг «Россия для русских» (даже если определение «русские» неясно), и хотели бы видеть ограничить приезд мигрантов и свободное передвижение выходцев из Северного Кавказа внутри страны. См., Например, самые последние данные: «Интолерантность и ксенофобия», «Левада-центр», 11 октября 2016 года, http://www.levada.ru/2016/10/11/intolerantnost-i-ksenofobiya/.
[13] Theodore P. Gerber, “Political and Social Attitudes of Russia’s Muslims: Caliphate, Kadyrovism, or Kasha?,” PONARS Eurasia, November 2016.
[14] Mikhail A. Alexseev, “Backing the USSR 2.0: Russia’s Ethnic Minorities and Expansionist Ethnic Russian Nationalism,” in The New Russian Nationalism: Between Imperial and Ethnic, eds. Pål Kolstø and Helge Blakkisrud (Edinburgh: Edinburgh University Press), 160–191.
[15] Семен Чарный, «Расизм, ксенофобия, антисемитизм, этническая дискриминация в Российской Федерации в 2005 году (Moscow: Moscow Bureau for Human Rights, 2006).
[16] Это следует интерпретировать с осторожностью. Количество докладов о таких инцидентах, особенно среди мигрантов, которые не хотят привлекать внимание полиции, остается низким, и многие акты расистского насилия по-прежнему определяются как хулиганство.
[17] В 2010 году около 5000 националистов с расистскими баннерами заняли центральную Манежную площадь в Москве из-за инцидента с убийством футбольного болельщика. Общественное мнение по убийству русского группой кавказцев вызвало вспышки ксенофобии в Сагре (маленькая деревня под Екатеринбургом) в 2011 году, Пугачеве (маленький город в Саратовской области) и Бирюлево в 2013 году.
[18] К примеру, исследования Алексея Малашенко для Московского Центра в Карнеги
[19] Что касается ситуации 1990-х годов, см. Дмитрий Горенбург, «Региональный сепаратизм в России: этническая мобилизация или захват власти?», «Europe-Asia Studies 51», вып. 2 (март 1999 года): 245-274; Дмитрий Горенбург, “Этническая мобилизация меньшинств в Российской Федерации” (Кембридж: Cambridge University Press, 2003); Элиз Джулиано, “Построение жалоб: этнический национализм в российских республиках” (Итака, Нью-Йорк: Корнельская университетская пресса, 2011)
[20] См. Николай Петров, «Анализ взаимосвязи развития демократических институтов на национальном и субнациональном уровнях: пример России и ее регионов», Лаборатория методов оценки регионального развития, Центр фундаментальных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 13 мая 2016, https://www.hse.ru/org/projects/144505261.
[21] J. Paul Goode and Marlene Laruelle, “Putin, Crimea and the Legitimacy Trap,” openDemocracy, March 13, 2014, https://www.opendemocracy.net/od-russia/j-paul-goode-and-marlene-laruelle/putin-crimea-and-legitimacy-trap-nationalism.
[22] Aleksandr Verkhovskii, “Dinamika nasiliia v russkom natsionalizme,” in Rossiia—ne Ukraina: Sovremennye aspekty natsionalizma, ed. Aleksandr Verkhovskii(Moscow: SOVA, 2014), 32–61.
[23] Ibid.
[24] Ekaterina Levintova and Jim Butterfield, “History Education and Historical Remembrance in Contemporary Russia: Sources of Political Attitudes of Pro-Kremlin Youth,” Communist and Post-Communist Studies43, no. 2 (2010): 158.
[25] Репродуктивный уровень этнических русских медленный, по сравнению с демографическим бумом номинально мусульманского населения, особенно северокавказцев, и процессом натурализации сотен тысяч мигрантов, в основном из Центральной Азии.