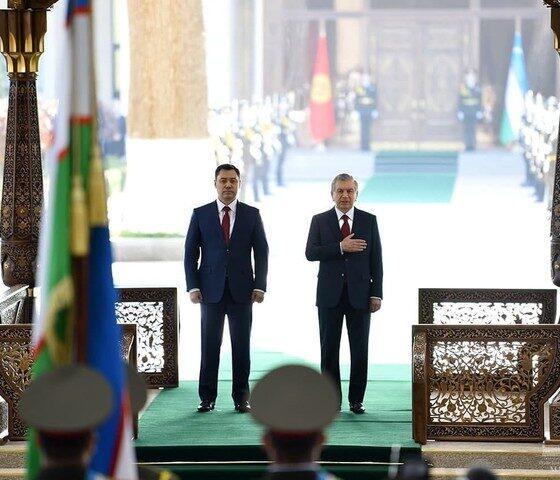Религиозное возрождение является отличительной чертой в непродолжительной истории Кыргызстана после обретения независимости, по мере того, как страна продолжила политику открытости, введенной в пору горбачевской перестройки. Результатом стал устойчивый рост как религиозности, так и разнообразия вероисповеданий. Поскольку большую часть населения страны – 5,7 млн человек – составляют мусульмане, ислам находился в авангарде этих событий. Проповедникам всех направлений было позволено проводить свою деятельность, в то время как по сей день, студенты выезжают за границу: в Египет, Саудовскую Аравию, Пакистан и Бангладеш, в целях получения религиозного образования.
Однако, общественное пространство, на котором ислам не так давно утвердился, получает широкое освещение в СМИ, отождествляющее увеличивающуюся религиозность с процессом постепенной радикализации. Вооруженное противостояние между членами элитных подразделений Альфа и неизвестными боевиками в Бишкеке в середине июля вывело так называемый радикальный ислам в центр внимания, несмотря на то что, по крайней мере, при первом анализе – «перестрелка напоминала операцию по захвату беглых преступников». Учитывая щепетильность темы, населению, как правило, предоставляется официальная версия правительства о событиях, зачастую, практически не подкрепленная доказательствами, или альтернативные объяснения с оттенком секретности в связи с отсутствием независимых оценок.
Как бы то ни было, возрождение ислама является фактом жизни в Кыргызстане. По данным Госкомиссии по делам религий (ГКДР), регулирующей отношения между государством и религиозными организациями, «в 1990 году в Кыргызстане было 39 мечетей, а в 2014 году этот показатель достиг 2362 мечети и 81 исламских школ в структуре [муфтията]», Духовного управления мусульман, квази-государственного органа, который регулирует мусульманские дела в стране. В Кыргызстане «зарегистрированы 68 мусульманских центров, фондов и объединений, проводящих образовательную, просветительскую и благотворительную деятельность и занимающихся строительством культовых объектов», – продолжает ГКДР.
Франко Гальдини
Магистр гуманитарных наук (с отличием), Международная политика, Университет Манчестера, Великобритания. Менеджер программы «Миграция и права человека», Тянь-Шанский аналитический центр (ТАЦ), Американский Университет в Центральной Азии (АУЦА). Редактор, Политический Обзор Центральной Азии (CAPR).
Рост разнообразия
Муфтият максимально приближен к официальному исламу в государстве, которое определяет себя как светское, и – вместе с государственным аппаратом – устанавливает границы исламских традиций в Кыргызстане. Когда я спросил об этом известного богослова Кадыра Маликова в апреле этого года, он объяснил, что традиционно мусульмане в Кыргызстане являются суннитами доктрины Матуриди и последователями ханафитской школы правоведения, как и остальная часть Центральной Азии.
Ученые, однако, отмечают, что традиционный ислам в стране «включает в себя множество элементов доисламских религий и культов, в том числе шаманизм, анимизм, зороастризм, поклонение предкам и культ природы». Именно с таким синкретизмом не согласны мусульмане салафитской ориентации наряду с другими доктринальными и правовыми вопросами.
Салафиты являются лишь одним из множества различных направлений ислама в Кыргызстане, где свободно работает Таблиги Джамаат (TД), хотя и без официальной регистрации, наряду с множеством суфийских орденов. Хизб ут-Тахрир (ХуТ) – пан-исламская организация, которая призывает к восстановлению Халифата, запрещенная во всей Центральной Азии и России, также ведет активную подпольную работу в стране.
Основанная в Индии в 1920-е годы, ТД является строго аполитичной организацией, работающей на уровне широких масс по возрождению ислама. В ее основе концепция дават, или «призыва», посредством чего миссионеры ТД (которые называются даваатчи) путешествуют по всей стране, рассказывая братьям-мусульманам об их вере, а также призывая их, в свою очередь, совершать дават в своих сообществах и за их пределами.
Эмиль Насритдинов, профессор антропологии Американского университета Центральной Азии и член ТД, считает, что «движение имеет большое влияние в Кыргызстане, и, учитывая тот факт, что оно не ввязывается в политику, многие страны признают ее мирный потенциал. Я, на самом деле, утверждаю, что благодаря ТД в Кыргызстане нет значительного присутствия радикального политического ислама».
Страх «экстремизма»
Несмотря на то, что эта оценка общепринята в среде экспертов, вопрос о запрете ТД периодически поднимается в стране. Некоторые опасаются, что запрет на ТД был бы катастрофой для Кыргызстана, создавая вакуум, который может быть заполнен экстремистскими группами. Аналогично, учитывая распространённость дават и эффективность ТД в решении социальных проблем, таких как алкоголизм и наркомания, создается нечеткое разграничение между приверженцами «официального» ислама муфтията и ТД.
Однако критики рассматривают текущий процесс исламизации – как они его определяют – с подозрительностью и страхом. Элиты в Бишкеке и (возможно, в меньшей, но не менее важной степени) в Оше питают надежду на светское мировоззрение, унаследованное от десятилетий советского правления, и, как правило, склонны рассматривать такое религиозное возрождение как сельское явление, «мигрирующее» в город вследствие экономических причин. В Бишкеке многие из этих внутренних мигрантов селятся в новостройках, новых строительных проектах на окраине города, где арендная плата приемлема.
Житель Бишкека, который много лет проработал в международной организации, во многих строительных проектах, четко формулирует эти смешанные чувства по отношению к исламизации: «В новостройках ислам все больше и больше становится особенностью повседневной жизни. Строятся молитвенные комнаты и мечети, и люди ведут себя, по их мнению, в соответствии с шариатом. Молодые и старые мобилизуются вокруг религии, они собираются вместе, чтобы обсудить ислам и понять, как стать лучшим мусульманином. Они говорят, что в этом нет никакой опасности».
Он делает паузу, а затем добавляет: «На мой взгляд, на это можно посмотреть двояко. С одной стороны, люди становятся лучшими мусульманами, они перестают пить и начинают работать для своей семьи. С другой стороны, большинство из них необразованны и не могут читать Коран, поэтому они верят всему, что им говорят об исламе».
Правительство должно установить четкую грань между ответом на эти опасения и решительным осуждением всего, что не соответствует практически официально санкционированной версии ислама. Однако, в напряженном международном контексте вследствие событий 11 сентября 2001 года и в новой медиа шумихе после провозглашения исламского государства в части Сирии и Ираке в июне 2014 года, правящие элиты, похоже, поддерживают международный дискурс об экстремизме для внутреннего использования.
Концепция национальной безопасности Кыргызстана 2012 г. заявляет, что «религиозный экстремизм и международный терроризм в настоящее время представляют собой массивную угрозу для Кыргызской Республики. Религиозные экстремистские и террористические организации [превращаются] в мощные международные криминальные структуры с разветвленной сетью единомышленников, в том числе, в нашей стране. Для того чтобы реализовать свои планы по ускорению исламизации и радикализации обществ Центральной Азии используются [многочисленные] миссионеры и финансовые средства вместе со средствами массовой информации и Интернетом, а также ввозится экстремистская литература [для] идеологической обработки населения».
Такая формулировка весьма проблематична. Во-первых, существует проблема терминологии: концепция смешивает исламизацию с радикализацией, что, в лучшем случае, спорно, а в худшем – опасно. Во-вторых, она смешивает и путает экстремизм и терроризм. Другие официальные документы используют термины радикализм, фундаментализм, экстремизм и терроризм взаимозаменяемо. При попытке предоставить определение, они не могут сформулировать различия между экстремизмом и насильственным экстремизмом, упуская ключевое отличие в том, что приверженец экстремистских взглядов может отвергать применение насилия.
Будучи далеко не семантический вопрос, который вводит в большую путаницу, так как к салафитам, ТД и ХуТ применяются различные степени контроля из-за недостаточно полного определения радикализма. Кроме того, присутствует небольшой нюанс в описании этих различных направлений ислама, а также ваххабитов и такфиристов – первые – приверженцы официальной версии ислама Саудовской Аравии; последних определяют как экстремистов, которые обвиняют других мусульман в куфре или неверии, что может оправдать их убийство – их рассматривают как одно и то же.
Похоже, такие суждения распространены и среди местных служб разведки. Как, предположительно, сообщил один высокопоставленный чиновник в правоохранительных органах главе международной неправительственной организации: «Нет никакой разницы между экстремизмом и насильственным экстремизмом».
Чувствительность вопроса и нарушения
Критики утверждают, что обвинения в экстремизме могут использоваться, чтобы остановить критику в адрес правительства, и нацелены на конкретные группы. Недавний арест имама Камалова Рашода был в заголовках статей, но это далеко не единственный пример.
Адвокат с юга страны, пожелавший остаться неизвестным из-за чувствительности темы, утверждает, что ему поступили 20 таких новых дел только в этом году. «Большинство составляют узбеки, но есть также и кыргызы, увеличилось число женщин по сравнению с прошлым годом». Это и неудивительно. Со времени столкновений на юге летом 2010 г. между кыргызским большинством населения страны и многочисленным узбекским меньшинством, последние жаловались на притеснения и дискриминацию со стороны властей. Независимые исследователи пришли к единообразному заключению, что несмотря на то, что большинство жертв насилия составляли узбеки, их же в последствии осудили и приговорили.
Адвокат говорит мне в отчаянии, что в большинстве его дел «людей обвиняют в хранении и распространении экстремистской литературы, но эти публикации не включены в официальный список запрещенных материалов. Поэтому, как можно арестовать человека за то, что на самом деле не запрещено?» И добавляет: «Дело в том, что, учитывая нынешнюю ситуацию, эти случаи имеют огромный резонанс, и до сих пор нам не удалось добиться ни одного оправдательного приговора. Это является маргинализацией людей, которые теряют веру в учреждения. Многие из них молоды и единственные кормильцы в семье, поэтому их заключение в тюрьму может разрушить целую семью». 7 октября Имам Камалов получил 5-летний тюремный срок.
Чувствительность предмета означает, что доказательства заявлений об экстремизме зачастую являются слабыми, и в то же время, активно препятствуют проведению независимых исследований. Яснее всего это отражено в широком диапазоне статистических данных о количестве бойцов, выехавших из Кыргызстана на войну в Сирию или Ирак на сторону так называемого исламского государства. Но это также относится и к более прозаическим вопросам, таким как число последователей любой исламской группировки.
Аман Салиев, старший эксперт Института стратегического анализа и планирования в Бишкеке, говорит прямо: «Вы никогда не сумеете приблизительно посчитать различные исламские течения. Никто не делает подсчеты, а официальные статистические данные недостоверны. Каждый эксперт и каждое должностное лицо получит разные цифры».
Ислам и гос.управление в Кыргызстане
Однако, по одному вопросу все мнения сходятся. В Кыргызстане не хватает квалифицированных кадров, необходимых для удовлетворения растущей потребности в исламском образовании. ГКДР указывает, что «только 20% представителей духовенства имеют базовое религиозное образование медресе и исламских институтов».
Аким Эргешенов, глава отдела религиозного образования в муфтияте, добавляет: «Мы нуждаемся в средствах. И очень опасно когда, люди думают, что они мусульмане, но никто не учит их исламу. Если у кого-то есть желание узнать, он удовлетворит его, независимо от того, дадите ли вы ему возможность или нет».
В Кыргызстане, однако, проблема глубже ислама. Светское образование страдает от нехватки 2340 учителей, как недавно заявил министр образования и науки. Десятилетия неэффективного управления и широко распространенной коррупции привели к сокращению предоставления услуг, или, по словам политолога Эрика МакГлинчи, «кыргызское правительство в начале двадцать первого века не может обеспечить даже то, что поставлял Ленин в начале двадцатого века: электричество на регулярной и предсказуемой основе».
МакГлинчи является одним из ряда ученых, которые показывают потенциал ислама в компенсации, по меньшей мере, частичной, глубокого кризиса управления, который переживает страна. Он определяет продолжающееся исламское возрождение в качестве «продукта ослабевающего кыргызского государства», в результате чего «разнообразное количество исламских организаций и учреждений – местные мечети, Хизб ут-Тахрир, различные религиозные и бизнес-группы семьи Камаловых [и] даже Диянат, духовный совет турецкого правительства – участвуют в обеспечении продовольствия, жилья, образования, что не может обеспечить центральное правительство».
В последние годы так называемые группы самопомощи существенно распространились по всей стране и региону, чтобы поставлять общественные блага, когда-то поставляемые государством. Некоторые являются светскими, но многие религиозны, и в местной мечети создается естественный организующий центр. Алишер Хамидов, член-корреспондент программы Центральной Азии в университете Джорджа Вашингтона, описывает, как на базаре его родного Аравана, «существует сеть мусульманских предпринимателей, образованная в местной мечети. Это группы взаимопомощи по очереди выдают кредит членам группы. Если кто-то заболеет, например, семья может использовать эти средства. Они называют себя по-разному – джамаат, джуралик (братство) – но все они основаны на давней Центрально азиатской традиции ассоционизма».
На вопрос о том, представляет ли текущий рост религиозности угрозу Кыргызстану, Хамидов ясно отвечает: «До сих пор самая большая угроза исходила от светских идеологий, таких как национализм, а не исламские организации». События лета 2010 г., например, настроили кыргызов против узбекских националистов, выдвигавших вопросы политического представительства, экономических трудностей и культурных прав. Всплеск кыргызского национализма с тех пор вызывает опасения маргинализации среди меньшинств Кыргызстана, не говоря уже о повторении насилия 2010 года.
Хамидов продолжает: «За исключением гражданской войны в Таджикистане и Исламского движения Узбекистана, не было ни одного примера насильственной исламской мобилизации в Центральной Азии. Скорее, исламские группы находились на заднем плане политических событий в течение двух революций в Кыргызстане». Салиев, старший эксперт, соглашается: «Радикальный ислам является очень маргинальным проектом в Кыргызстане. Самая большая угроза для нашей страны это крах системы образования».
Версия данной статьи был впервые опубликована в серии Умма: Ислам в постсоветском мире на сайте «Открытая демократия» (английская и русская версия).
Islam in Kyrgyzstan: growing in diversity
Franco Galdini
MA (distinction) International Politics, The University of Manchester, UK
Migration & human rights program manager at the Tian Shan Policy Center (TSPC), American University of Central Asia (AUCA)
Editor, Central Asia Policy Review (CAPR)
Introduction
Religious revival has been a hallmark of Kyrgyzstan’s short post-independence history, as the country continued the policy of openness ushered in during Gorbachev’s perestroika. The result has been a steady growth in both the degree of religiosity and the diversity of and within faiths. As the majority of the country’s 5.7 million people identify as Muslims, Islam has been at the forefront of such developments. Preachers of all strands have been allowed in, while to this day students travel abroad to Egypt, Saudi Arabia, Pakistan and Bangladesh for their religious training.
Islam’s newly-found public space, however, has been attracting a lot of media coverage that tends to equate increasing religiosity with a process of creeping radicalisation. The mid-July armed confrontation between members of the elite Alpha special forces and unidentified militants in Bishkek brought so-called radical Islam back into the spotlight, despite the fact that – at least at first analysis – ‘the firefight look[ed] like an operation to capture criminals on the run.’ Given the sensitivity of the subject, people are generally left with the government’s official version of events, very often with little to no evidence to go by, or with alternative explanations that smack of conspiracy due to the lack of independent assessments.
Be it as it may, Islam’s revival is a fact of life in Kyrgyzstan. According to the State Commission for Religious Affairs (SCRA), an institution of the Presidency that regulates relations between the state and religious organisations, ‘while in 1990 there were 39 mosques operating in Kyrgyzstan, in 2014 that number reached 2,362 mosques and 81 Islamic schools within the structure of the [Muftiate],’ the Muslim Spiritual Board, a quasi-government agency that regulates Muslim affairs in the country. There are ‘68 registered Muslim centres, foundations and association involved in educational, awareness-raising and charitable activities and the construction of places of worship,’ the SCRA continues.
Growing in diversity
The Muftiate represents the closest approximation to official Islam in a country that defines itself as secular, and – along with the state apparatus – it sets the boundaries of what Islamic tradition means in Kyrgyzstan. When I asked renowned theologian Kadyr Malikov back in April this year, he explained that traditionally Muslims in Kyrgyzstan are Sunnis of Maturidi doctrine and follow the Hanafi School of jurisprudence, like in the rest of Central Asia.
Scholars, however, point out that the country’s traditional Islam ‘incorporates many elements of pre-Islamic religions and cults, including shamanism, animism, Zoroastrianism, ancestor worship and the cult of nature.’ It is this syncretism that Muslims of the Salafi orientation take issue with, along with other doctrinal and legal matters.
Salafis are but one among many diverse strands of Islam in Kyrgyzstan, where Tablighi Jamaat (TJ) operates freely, though without an official registration, alongside an array of Sufi orders. Hizb ut-Tahrir (HuT) – a pan-Islamic organisation calling for the restoration of the Caliphate, which is banned across Central Asia and Russia – also maintains an active clandestine presence in the country.
Established in India in the 1920s, TJ is a strictly a-political organisation working at the grassroots level for the revival of Islam. At its heart is the concept of da’wah, or ‘call,’ whereby TJ missionaries (called davaatchi) travel the length of the country to educate fellow Muslims about their faith, as well as call on them to in turn perform da’wah in their communities and beyond.
Emil Nasritdinov, an anthropology professor at the American University of Central Asia and a TJ member, believes that ‘the movement is very influential in Kyrgyzstan and, given the fact that it doesn’t get involved into politics, many countries acknowledge its pacifying potential. I actually argue that because of TJ Kyrgyzstan doesn’t have a strong presence of radical political Islam.’
Fear of ‘extremism’
Despite experts broadly agreeing with this assessment, the issue of outlawing TJ is a recurrent one in the country. Some worry that a ban on TJ would spell disaster for Kyrgyzstan, creating a vacuum that could be filled by extremist groups. Likewise, given the pervasiveness of da’wah and TJ’s effectiveness in addressing social issues such as alcoholism and drug abuse, the line between adherents to the Muftiate’s ‘official’ Islam and TJ is blurry.
Critics, however, view the current process of Islamisation – as they define it – with a mixture of suspicion and fear. Elites in Bishkek and (perhaps to a lesser but still important extent) Osh cherish the secular outlook inherited from decades of Soviet rule, and tend to view this religious revival as a rural phenomenon ‘migrating’ to the city due to economic reasons. In Bishkek, many of those internal migrants settle in novostroiki, new construction projects at the edge of the city where rent is affordable.
A Bishkek resident who has spent years working for an international organisation in many construction projects aptly captures these mixed feelings towards Islamisation: ‘in novostroiki, Islam is more and more a feature of daily life. Prayer rooms and mosques are being built, and people behave in a manner they consider to be in accordance with sharia. Young and old mobilise around religion, they come together in groups to discuss Islam and understand how to be better Muslims. They say there’s no danger in that.’
He pauses, and then adds: ‘to my mind, you can look at it both ways. On the one side, people become better Muslims, they stop drinking and start working for their families. On the other, the majority of them are uneducated and cannot read the Quran, so they’d believe anything one tells them about what Islam is.’
The government has to walk a fine line between addressing these fears and avoiding being perceived as blankly condemning anything that doesn’t conform to the semi-officially-sanctioned version of Islam. However, in the charged international context since September 11, 2001, and the renewed media hype following the declaration of an Islamic State in parts of Syria and Iraq in June 2014, the ruling elites appear to be toeing the international discourse on extremism for domestic consumption.
Kyrgyzstan’s 2012 National Security Concept states that ‘religious extremism and international terrorism currently represent a massive threat to the Kyrgyz Republic. Religious extremist and terrorist organizations [become] powerful international criminal structures with an extensive network of like-minded people including in our country. In order to implement their plans to accelerate the Islamisation and radicalisation of Central Asian societies [numerous kinds of] missionaries and funds are used along with the media and internet, and extremist literature is imported [for] the indoctrination of the population.’
This formulation is highly problematic. Firstly, there is the issue of terminology: the Concept conflates Islamisation with radicalisation, which is controversial at best, inflammatory at worst. Secondly, it fuses and confuses extremism and terrorism. Other official documents use the terms radicalism, fundamentalism, extremism and terrorism interchangeably. When attempting to provide a definition, they fail to differentiate between extremism and violent extremism, missing the crucial distinction that one may hold extremist views while being loath to using violence.
Far from being a matter of semantics, this opens the door to serious confusion as Salafis, TJ and HuT find themselves under different degrees of scrutiny for an ill-defined radicalism. Also, little nuance is found in the description of these different strands of Islam, as well as Wahhabis and Takfirists – the former, adherents to Saudi Arabia’s official version of Islam; the latter, a term used to define violent extremists who accuse other Muslims of kufr, or disbelief, that can justify killing them – who are treated as one and the same.
This seems to be pervasive in the local intelligence community, as a senior official in law enforcement reportedly put it to the head of an international NGO: ‘there’s no distinction between extremism and violent extremism.’
Of sensitivity and violations
Critics argue that accusations of extremism can be used to silence criticism of the government and target specific groups. Recently, the arrest of Imam Rashot Kamalov made headlines, but he is far from an isolated example.
A lawyer in the south – who requested anonymity due to the sensitivity of the subject – claims that he has received 20 new such cases this year alone. ‘Most are Uzbeks, but there are also Kyrgyz, and the number of women has increased compared to last year.’ This is hardly surprising. Since the summer 2010 clashes in the south between the country’s majority Kyrgyz population and the sizeable Uzbek minority, the latter have complained of harassment and discrimination at the hands of the authorities. Independent researchers have consistently found that while most victims of the violence were Uzbeks, so were those tried and sentenced in its aftermath.
The lawyer tells me in frustration that in most of his cases ‘people are accused of possessing and distributing extremist literature, but these publications aren’t on the official list of prohibited material. So how can someone be arrested for something that isn’t actually banned?’ He adds: ‘The thing is that, given the current situation, these cases have huge resonance and so far we haven’t managed to get a single acquittal. This is marginalising people, who are losing faith in the institutions. Many are young and the only bread-winners in the household, so jailing them can wreck a whole family.’ On October 7, Imam Kamalov was handed a 5-year prison sentence.
The sensitivity of the subject means that evidence about allegations of extremism is often weak, while independent research is actively discouraged. Nowhere is this clearer than in the widely ranging statistics on the number of fighters who left Kyrgyzstan to fight in Syria or Iraq for the so-called Islamic State. But it also applies to more prosaic questions such as the number of adepts of any given Islamic group.
Aman Saliev, a senior expert at the Institute of Strategic Analysis and Planning in Bishkek, puts it bluntly: ‘You’ll never manage to get estimates for the different Islamic trends. No-one keeps count and official statistics are unreliable. Every expert and every government official will come up with different numbers.’
Islam and governance in Kyrgyzstan
One point appears to find everyone in agreement, however. Kyrgyzstan lacks the number of qualified cadres necessary to satisfy the growing need for Islamic education. The SCRA indicates that ‘only 20% of clerics have a basic religious education from madrasas and Islamic institutes.’
Akim Ergeshenov, the head of the religious education department at the Muftiate, doubles down: ‘we are starved for funds. And it is very dangerous that people think they are Muslims but no-one is teaching them about Islam. If someone has a desire to know, he’ll satisfy it whether you offer a chance or not.’
In Kyrgyzstan, however, this runs deeper than Islam. Secular education suffers from a shortage of 2,340 teachers, as the Minister of Education and Science recently declared. Decades of mismanagement and widespread corruption have resulted in collapsing services, or, in the words of political scientist Eric McGlinchey, ‘the Kyrgyz government at the beginning of the twenty-first century cannot even provide what Lenin delivered at the beginning of the twentieth century: electricity on a regular and predictable basis.’
McGlinchey is one of a number of scholars that reveal Islam’s potential for compensating, at least partially, for the deep governance crisis the country is experiencing. He identifies the ongoing Islamic revival as a ‘product of the failing Kyrgyz state,’ whereby ‘a diverse collection of Islamic organisations and institutions – local mosques, Hizb ut-Tahrir, the Kamalovs’ various religious and business groupings [and] even the Diyanat, the Turkish government’s spiritual board – are stepping in and providing the food, shelter, and education that the central government cannot.’
In recent years, so-called self-help groups have substantially spread across the country – and the region – to deliver the public goods once supplied by the state. Some are secular, but many are religious and find in the local mosque their natural organising centre. Alisher Khamidov, an Associate at the Central Asia Program at George Washington University, describes how, in the bazaar of his native Aravan, ‘there is a network of Muslim entrepreneurs who formed in a local mosque. This mutual assistance groups rotate credit among members. If someone falls ill, for example, the family can use these funds. They call themselves differently – jamaat, juralik (brotherhoods) – but they all build on Central Asia long tradition of associationism.’
On the question of whether the current growth in religiosity represents a threat to Kyrgyzstan, Khamidov is clear: ‘so far, the biggest threat has come from secular ideologies, like nationalism, rather than Islamic organisations.’ The summer 2010 events, for instance, pitted Kyrgyz against Uzbek nationalists over issues of political representation, economic grievances and cultural rights. The surge in Kyrgyz nationalism ever since raises worries of marginalisation among Kyrgyzstan’s minority communities, not to speak of a repeat of the 2010 violence.
Khamidov continues: ‘With the exception of the Tajik civil war and the Islamic Movement of Uzbekistan, there has been no example of violent Islamic mobilisation in Central Asia. Rather, Islamic groups stood on the political sidelines during two revolutions in Kyrgyzstan.’ Saliev, the senior expert, concurs: ‘radical Islam is a very marginal project in Kyrgyzstan. The biggest threat to our country is the collapse of the education system.’
A version of this paper was first published in the Ummah: Islam in the post-Soviet world series on openDemocracy (English & Russian).