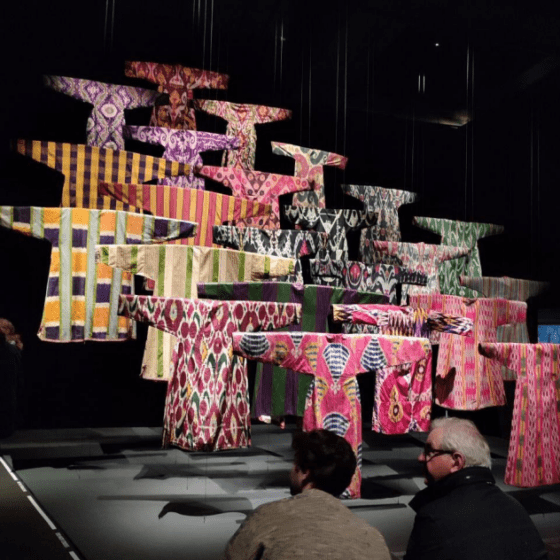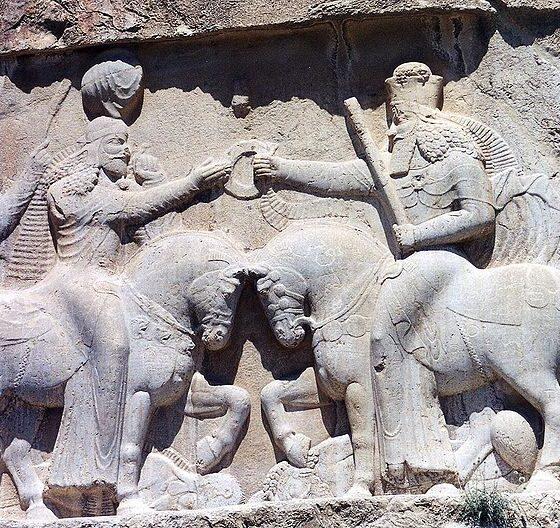Ноа Такер – исследователь Ислама в Центральной Азии, он участвовал в исследовании по Исламу в Евразии, совместном проекте между Гарвардским университетом и Фондом Карнеги. В настоящее время Ноа ведет работу по проекту Central Asia Digital Islam. Он также является редактором сайта Registan.net.
Ваше мнение по поводу запрета Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Каковы были причины этого решения? Какие последствия это может вызвать?
Я думаю, что запрет ПИВТ и недавняя волна арестов являются прямым результатом долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы нивелировать все уступки, на которые были вынуждены пойти Рахмон и тогдашний лидер Народного фронта при подписании мирного соглашения в 1997 году. Конечно, конкретные политические деятели и экономические факторы влияют на все эти решения, но мы наблюдали устойчивую эрозию условий мирного соглашения с начала 2000-х: группа лидеров Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), присоединившихся к правительству, от Мирзо Зиёева десять лет назад до Ходжи Халима (Назарзода) в этом месяце, были уволены или отстранены от власти, а затем арестованы или убиты при загадочных обстоятельствах, иногда в отделениях милиции. Давление на ПИВТ – единственную политическую партию, возникшую из альянса с целью участия в национальной политике – регулярно увеличивалось за последние несколько лет. Важно также отметить усилия правительства, которое делает все возможное (особенно, оно постаралось в период избирательной кампании мартовских парламентских выборов, полностью вычеркнувшие ПИВТ впервые с 1997 года), чтобы оправдать все эти меры как часть «борьбы против исламского терроризма» и создать ложную связь между ПИВТ и Ираном, Братьями-мусульманами и ИГ.
При этом уход от условий мирного соглашения и серия загадочных смертей бывших лидеров ОТО направлены не только на исламских деятелей или бывшие исламистские фракции. Частью общей картины стали и серьезный конфликт в Хороге, и постепенное нивелирование обещания автономии Горно-Бадахшанской автономной области, что было неотъемлемой частью договора, положившего конец гражданской войне. Никто среди властей не осмелится утверждать, что исмаилиты Бадахшана тайно связаны с глобальными планами джихадистов-салафитов, поэтому они говорят, что волнения в ГБАО являются частью заговора Соединенных Штатов и ЕС. Конечные результаты те же – вооруженные операции и смерть местных лидеров, таких как Толиб Aйомбеков. Конечно, нельзя сказать, что бывшие командиры ОТО не были вовлечены в преступную деятельность и что все они были примерными гражданами, но существует четкая тенденция ухода от мирного соглашения, завершившего самый смертоносный конфликт в Центральной Азии в истории нескольких поколений. ПИВТ стала единственным реальным политическим инструментом для людей и регионов, представленных в ОТО, позволяющим им обращать свои жалобы через политический процесс на национальном уровне, и часто партия служила важным средством для продвижения этих целей на местном уровне. Устранение ПИВТ «снизу-вверх» открывает путь для «полной победы» Рахмона и его Народно-демократической партии Таджикистана, но это оставляет многих рядовых таджиков (поддержка ПИВТ, как правило, колебалась в районе 30%, согласно опросам) без малейшей представленности в политическом процессе.
Как Вы думаете, будет ли возвращение мигрантов и ухудшение экономической ситуации в Центральной Азии увеличивать радикализацию? Как можно отделить религиозные факторы и социально-экономическую ситуацию в общей радикализации общества в Центральной Азии?
Я думаю, что мы должны полностью отделить слово «радикализация» от религии. Нас не должно заботить, если люди становятся «религиозно радикальными». Как отметил мой друг Дэвид Монтгомери, все, кто строит свою жизнь и поведение вокруг религиозных убеждений, будут казаться в определенной степени радикальными для тех, кто организует свое бытие по другим принципам. Есть серьезные проблемы с тем, как этот вопрос адресуют в Центральной Азии (и во многих других регионах), где, как правило, считают, что экономические проблемы или иностранное влияние делают людей «более религиозными», и что, становясь «более религиозными», эти люди будут «радикализироваться» и стремиться к свержению своего правительства. Эта модель часто берется как должное в анализе Центральной Азии, но имеет очень слабую историческую поддержку. Приведу вкратце аргумент, изложенный в опубликованном в прошлом месяце исследовании проекта Гарвардского университета/Фонда Карнеги «Ислам в Евразии». В нем говорится, что люди в Центральной Азии участвуют в поразительно разнообразных религиозных практиках: они могут быть духовными целителями, паломниками или строгими скриптологами, которые носят длинные бороды или хиджаб. Ни одна из данных практик не имеет отношения к политическому насилию. Между экономическими проблемами и интересом к религии нет четкой связи, как нет ее и между общим интересом к религии (которая вдохновляет людей в Центральной Азии на посещение святынь или проведение молитв за своих предков, запоминание заповедей Корана или ношение более коротких брюк) и политическим насилием. Исследователь Венделл Шваб (Wendell Schwab), например, указывает в своей работе, что самые набожные мусульмане в Казахстане являются ярыми сторонниками президента Назарбаева.
Политическое насилие случается тогда, когда рушатся другие средства медиации социальных и экономических проблем, и часто, когда из политического процесса, который выступает в качестве инструмента такой медиации, вырезаются конкретные группы. Разумеется, мусульманская идентичность является одним из немногих общих факторов идентичности для населения в Центральной Азии, где каждое государство построено на иногда противоречивых этнических и региональных идентичностях. Религиозная идентичность не раз использовалась в прошлом для мобилизации людей на политические действия, а когда политика не в состоянии решить вопрос, применялись военные действия, как в андижанском восстании 1898 года под предводительством суфийского лидера или восстаниях некоторых групп басмачей. Но религия не является причиной конфликта; это всего лишь одна из многих идентичностей, которые могут быть использованы для мобилизации лиц на действие сообща в качестве единой группы. Этнические и региональные идентичности были чрезвычайно важны для политики в Центральной Азии, особенно в советский и постсоветский период, и подавляющее большинство случаев насилия в прошлом веке происходило по этим принципам. Ферганская долина печально известна как «рассадник исламского радикализма», но от этнических конфликтов там погибло экспоненциально больше людей за последние 25 лет, чем от воинствующего исламизма.
Итак, чтобы, наконец, ответить на ваш вопрос, позвольте мне перефразировать его: приведут ли возвращение мигрантов и экономические стрессы в Центральной Азии к политическому насилию? Если эти экономические проблемы и политическая экономика, негативно влияющая на большие слои населения и узаконивающая крайнее неравенство, не будут контролироваться через политический процесс, включающий участие больших групп людей, то да, я думаю, что есть реальная опасность того, что эта ситуация может привести к насилию. Если мы, действительно, хотим предотвратить такой исход, то не так важно сфокусироваться на том, вокруг какой идентичности могут мобилизоваться бесправные группы людей (исторически, как правило, данных идентичностей сразу несколько, как свидетельствует гражданская война в Таджикистане в 1990-х годах, когда кластеры союзных групп мобилизовались вокруг этнической, региональной и религиозной идентичности по обе стороны конфликта), а необходимо решать вопросы, которые являются причиной возникновения конфликта. Даже если насильственное бритье бород может каким-то образом помешать людям в мобилизации для политического насилия по религиозному признаку (и у меня есть серьезные сомнения, что это помогает в разрешении проблемы), данный подход никак не остановит людей от поиска «радикальных решений» для «радикальных» политических проблем путем мобилизации в других группах.
Есть ли перспективы создания исламских партий в других странах Центральной Азии? Например, в Кыргызстане?
Я думаю, что не так важно создавать партию на основе религиозной идентичности, как важно давать людям возможность свободно исповедовать свою религию и позволять им принимать политические решения, основываясь на их религиозных убеждениях, если они того пожелают, при условии, что эти убеждения не ограничивают основные свободы других людей. Если в Центральной Азии – в Кыргызстане или где-нибудь еще – появится действительно представительная власть, то мы увидим среди избираемых депутатов людей, которые исповедуют исламские ценности, такие как справедливость и равенство, и которые всерьез противостоят коррупции с моральной точки зрения, обозначенной в исламских идиомах. Честно говоря, я думаю, что первым большим шагом к представительной демократии будет создание реальной политической партии, которая выступает за идеи или платформы, имеющие популярность среди народа, а не просто организации, построенной для удовлетворения амбиций небольшой группы элит. Опрос в нескольких странах выявил тенденцию, что есть многие, кто хотел бы, чтобы идеи политических партий формировались вокруг исламских ценностей, так что, скорее всего, это и произойдет в открытой политической среде, как это и случилось в конце советского периода. Реальный вопрос заключается в том, есть ли у нас партии, которые существуют для продвижения политики или есть только партии, которые создаются для поддержки отдельных элит и их союзников или для институционализации власти «пожизненных президентов».
Почему правительствам Центральной Азии так сложно управлять Исламом? Есть ли какие-либо подходы, которые могут быть заимствованы у других стран?
Я отвечу на этот вопрос вопросом. Почему правительствам стран Центральной Азии так сложно справиться с сектой «Свидетели Иеговы»? Их арестовывают, принуждают к увольнению, их стыдят собственные семьи и общины, а иногда они попадают в заключение на длительные сроки, и это происходит в каждой стране Центральной Азии. И все же они есть в каждой из этих стран, даже в Туркменистане, одном из самых закрытых и авторитарных государств на земле. Я сам не мусульманин, но молился с мусульманами в «печально известной» мечети Сарахсий в городе Кара-Суу, разговаривал с членами Хизб ут-Тахрир и слушал с долей смущения мнение некоторых о том, что Америка ведет войну с Исламом и несет ответственность за все их страдания. Но лишь один случай в Центральной Азии заставил меня почувствовать реальную опасность. Это было, когда свидетель Иеговы подошел ко мне на улице Ташкента и попытался обратить меня в свою религию: я искренне испугался того, что нас обоих арестуют. Я не мог понять, что является таким побудителем в этой конкретной вере, что даже риск ареста не остановил этого человека от публичного нарушения закона против прозелитизма для того, чтобы выполнить требования своей веры. Если вы не можете «управлять» крошечной сектой, пришедшей извне, несмотря на то, что она запрещена, как можно надеяться «управлять» религией с многовековой историей и которую большая часть населения воспринимает как ключевую составляющую своей культуры, идентичности, истории, дающую смысл, как смертной жизни, так и бесконечности.
Я думаю, что исторический опыт в других частях мира показывает нам, что государства не могут эффективно управлять верой людей. Такие попытки не приносят плодов. Независимо от того, является ли общество однородным (а общества Центральной Азии, безусловно, не являются однородными), оно будет заполнено людьми, которые находят смысл в различных видах сообществ и разных системах вероисповедания. На самом деле, мало чего можно добиться путем «управления» этим процессом, а попытки управления являются наследием советского периода и марксистской философии о «социальной эволюции» и религии – это наследие также является причиной того, что многие советские ученые убеждены в том, что бедность и невежество заставляют людей становиться более религиозными.
Когда государства пытаются управлять религией, они насаждают свое определение «правильной» и «неправильной» веры, создавая своего рода случайную систему теократии. Узбекистан и Таджикистан представляются строго «светскими» государствами, но правительства обеих стран тратят много времени на определение того, что является «истинным исламом» или «истинным христианством», а что нет, и в процессе создается странная теократическая система, которая дает некоторым верующим государственную поддержку и отчуждает других. Если позволить людям верить, во что они хотят, но сосредоточиться на соответствии всех действий единой правовой норме, то все станут равны перед законом и смогут участвовать в едином политическом процессе, где конфликты или разногласия могут лучше регулироваться. Но это – в некотором смысле «западная» или «европейская» модель, и некоторые не верят, что она может быть подходящей для Центральной Азии. Однако необходимо понимать, что эта европейская модель была разработана в ответ на сотни лет безжалостной религиозной розни и кровопролития. Она смогла эффективно предотвратить религиозные конфликты в плюралистических обществах, но на Западе должны помнить, что она была разработана в результате очень дорогостоящих ошибок. Может быть, вместо того, чтобы просить правительства Центральной Азии «следовать нашей модели», было бы более уместным предложить им «учиться на наших ошибках».
Noah Tucker is a managing editor at Registan.net. Noah is the lead researcher on the Central Asia Digital Islam Project and previously worked on the Harvard/Carnegie Islam project.
What is your opinion on the ban of the Islamic Renaissance Party in Tajikistan. What were the reasons behind it and what implications it might cause?
I think the ban of the IRPT and the recent wave of arrests are the direct outcome of a of a long-term strategy to take back all the concessions Rahmon and the then-Popular Front were forced to make in the 1997 peace agreement. Of course, specific political personalities and economic factors influence all these decisions, but we’ve seen a steady erosion of the terms of the peace agreement since the early 2000s: a long series of United Tajik Opposition (UTO) leaders who joined the government, from Mirzo Ziyoev a decade ago to Hojji Halim (Nazarzoda) just this month, were dismissed or alienated from the government and later arrested or killed under mysterious circumstances, sometimes in police custody. Pressure against the IPRT — the only political party that emerged from the alliance to participate in a meaningful way in national politics — has regularly increased over the past few years. It’s important to note, too, that while the government does its best (especially during the campaign period leading to the March parliamentary elections that cut the IPRT completely out of the picture for the first time since 1997) to justify all these measures as part of the “fight against Islamist terrorism” and make spurious links between the IRPT and Iran, the Muslim Brotherhood, and ISIS, the rollback of the terms of the peace agreement and suspicious deaths of former UTO leaders have not been limited to Islamic figures or former Islamist factions, but have included serious conflict in Khorog and steady erosion of the autonomy promised to the Kohistani Badakhshan Autonomous Region as an integral part of the agreement that ended the civil war. No one in the administration in Dushanbe can claim that the Badakhshani Ismailis are secretly linked to global jihadi-Salafist plots, so they claim instead that unrest in KBAR is part of a conspiracy by the United States and the EU. The end results are the same – armed incursions and dead local leaders like Tolib Ayombekov. That’s not to say of course that none of these former UTO commanders were involved in criminal activity or were all model citizens, but there is a clear pattern of unraveling the peace agreement that ended Central Asia’s most deadly conflict in generations. The IRPT was the only real political vehicle for the people and regions represented by the UTO to solve their grievances through the political process at the national level, and often an important vehicle to do the same at the local one. Dismantling the IPRT from the bottom up clears the way for “total victory” of Rahmon and his People’s Democratic Party of Tajikistan, and it leaves many ordinary Tajikistanis –support for the IPRT has usually hovered around 30% according to polls – without even token representation in the political process.
Do you think that returning migrants and weakening economic situation in Central Asia could increase radicalization? Can we distinguish religious factors from social-economic resentment in the overall radicalization of Central Asian societies?
I actually think we should detach the word “radicalization” from religion completely. We shouldn’t care if people are “religious radicals.” As my friend David Montgomery has importantly pointed out in the last few years, anyone who orients their lives and actions around their religious beliefs is going to live a life that seems radical to someone who organizes their life in a different way. There are serious problems with the way this issue has been framed in Central Asia (and many other places), usually with the assumption that economic problems or foreign influence cause people to become “more religious” and that as people become “more religious” they will “radicalize” and insist on overthrowing their government. This model is often taken for granted in analysis of Central Asia, but it has very little historical support. What we see instead – this is a very short version of an argument that that gets laid out a length in the research by the Harvard/Carnegie Islam in Eurasia project published last month – is that people in Central Asia participate in a strikingly diverse array of religious practices, from spirit healers and shrine pilgrims to strict scripturalists who grow long beards or wear hijab. None of these has any causal relationship to political violence. There’s no particular relationship between economic problems and interest in religion, and there’s no particular relationship between a general interest in religion (which is just as likely to motivate someone in Central Asia to visit a shrine or pray for their ancestors as it is to motivate them to memorize verses from the Quran and wear shorter pants) and political violence. As Wendell Schwab’s work has shown really well, for example, very strict pietist Muslims in Kazakhstan are ardent supporters of President Nazarbayev.
Political violence happens when other means of mediating social and economic problems break down, and often when specific groups are cut out of the political process that mediates those problems. It’s also true of course that a Muslim identity is one of the few things large groups of people have in common in Central Asia, where each state is made of up sometimes conflicting ethnic and regional identities. Religious identity has been used at times in the past to mobilize people for politics — and when politics fail, for war, from the Andijon rebellion of 1898 led by a Sufi master to some of the Basmachi groups. But religion is not the cause of the conflict, it’s just one of many identities that can be used to mobilize individuals to act together as a group. Ethnic and regional identities have been extremely important to the politics of Central Asia especially in the Soviet and post-Soviet period, and the vast majority of the violence that has occurred in the past century has happened along those lines. The Ferghana Valley is notorious as a “hotbed of Islamic radicalism,” but ethnic conflicts there have killed exponentially more people in the last 25 years than militant Islamism.
So to finally answer the question let me rephrase it: will returning migrants and economic stresses in Central Asia lead to political violence? If these economic problems and a political economy that freezes out large sections of the population and institutionalizes extreme inequality cannot be mediated through the political process for large groups of people, then yes, I think there is a real danger this situation could lead to violence. If we truly want to prevent this outcome, it’s less important to focus on what identity disenfranchised groups might mobilize around – historically there are usually several at once, as there were in the Tajik civil war in the 1990s when clusters of allied groups mobilized around ethnic, regional, and religious lines on both sides – than it is to solve the issues that are likely to spark the conflict in the first place. Even if forcefully shaving beards could somehow prevent people from mobilizing for political violence along religious lines (and I have serious doubts that it helps solve that problem), it won’t do anything at all to prevent people from seeking “radical solutions” to “radical” political problems by mobilizing into different groups.
Are there any prospects for setting up Islamic parties in other Central Asian countries? In Kyrgyzstan, for example?
I don’t think it is as important to create a party based on religious identity as it is to allow all people to practice their religion freely and allow them to make political decisions based on their religious beliefs if they so choose, as long as these beliefs don’t restrict the basic freedoms of others. I think if we have truly representative government in Central Asia – in Kyrgyzstan or anywhere else – we will see people elected who embrace Islamic values like justice and equality and who seriously oppose corruption form a moral perspective expressed in an Islamic idiom. Honestly I think the first big step toward representative democracy would be to have an actual political party that stands for ideas or platforms popular with the people rather than an organization constructed to serve the ambitions of a small cluster of elites. Polling in several countries tells us pretty consistently that there are a lot of people who would like Islamic values to be one of those big ideas that a party forms around, so it’s likely that in an open political environment we would see that happen just as it did at the end of the Soviet period. The real question is whether we have parties that are about politics at all or only parties that are created to support a few individual elites and their allies or to institutionalize the power of “presidents for life.”
Why it is so difficult for the Central Asian governments to manage Islam? Are there are any good solutions that can be borrowed from the other parts of the world?
I’ll answer this question with another question, because I am annoying like that. Why it is so difficult for Central Asian governments to manage Jehovah’s Witnesses? They are arrested, forced out of their jobs, often shunned by their families and communities and sometimes imprisoned for long periods in every Central Asian country. And yet they are present in every Central Asian country, even Turkmenistan, one of the most notoriously closed and authoritarian states on the face of the earth. I’m not a Muslim myself, but I have prayed with Muslims in the “notorious” Sarakhsiy mosque in Kara-Su, talked to Hizb-ut Tahrir members and listened somewhat uncomfortably as some people told me that they think America is at war with Islam and was responsible for all of their suffering, but the only religious interaction I have had in Central Asia that made me truly feel in danger was when a Jehovah’s Witness came up to me on the street in Tashkent and tried to convert me. I was genuinely afraid that we were both going to be arrested and I couldn’t personally understand what he found so compelling about that particular faith to risk arrest in order to follow it and publicly break the law against proselytization in order to fulfill the dictates of his conscience. If you can’t “manage” a tiny splinter religion based in a foreign country even when they are fully banned, how can you possibly expect to be able to “manage” a religion with historical roots that go back for centuries and that a large part of the population feels like is the central part of their culture, identity, history, and that they feel gives meaning to their lives they believe will go on forever after this life is over?
I think what historical experience in other parts of the world shows us is that states cannot effectively manage people’s beliefs, and have little to gain from trying to do so. No matter how homogenous a society may be (and Central Asian societies are definitely not homogenous) it will be filled with individuals who find meaning in different types of communities and belief systems. There is really nothing to be gained by “managing” that process, and the impulse to do it is a legacy of the Soviet period and Marxist philosophy about “social evolution” and religion –- this legacy is also a big part of the reason so many Soviet-trained academics are convinced that poverty and ignorance “cause” people to become more religious.
When states do try to manage religion, they become arbiters of “correct” and “incorrect” belief within each faith, creating what amounts to a sort of accidental theocracy. Uzbekistan and Tajikistan are both supposed to strictly “secular” states, but both governments spend a lot of time arbitrating what is “true Islam” or “true Christianity” and what is not, and in the process create a an oddly theocratic system that gives the power of the state to some believers and alienates or disenfranchises others. If you allow people to believe what they want but focus on holding everyone’s actions up to the same legal standard, then everyone is equal under the law and can participate in the same political process for mediating conflict or disagreements. While this is in one sense a “Western” or “European” model that some people feel may not be a good fit for Central Asia, I think it’s important to keep in mind that this European model was developed as a response to hundreds of years of bitter religious strife and bloodshed. It has a good track record of preventing religious conflict in plural societies, but Westerners have to have some humility and remember that it was developed as a result of learning from very costly mistakes. Maybe it would be more appealing if instead of asking Central Asian government to “follow our model” if we advised them instead to “learn from our mistakes.”
Image credit: Flickr/Nima Fatemi, Goodbye Cruel World; Goodbye