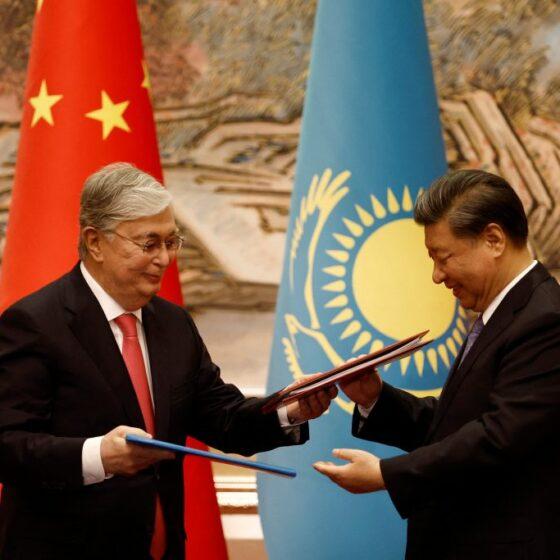За прошедшие три десятилетия центральноазиатские мигранты прошли испытание множеством кризисов. Из наиболее уязвимого слоя населения они переросли в одну из самых адаптивных групп, которая может подстроиться под тяжелые ситуации, будь то в экономике, политике или даже под ситуации, связанные с участием на войне. Причем, как показывают последние исследования, мигранты не только эффективно встраиваются в местную систему, но и выстраивают своё нормативное пространство, связи и институты, которые помогают им эффективно решать множество правовых и других нормативных коллизий.
Вопреки многочисленным негативным прогнозам, предсказывавшим кризис трудовой миграции в России в связи с войной в Украине, она не только не сократилась, но и сохраняет прежние темпы интенсивности и объемы денежных переводов. Хотя говорить о том, что здесь нет никаких проблем, конечно, не очень корректно. Каждая страна региона на своем уровне и с разным успехом пытается институционализировать трудовые потоки в Россию. У самих мигрантов также разные интересы. Некоторые получают российское гражданство, для других пребывание в России – это чисто экономический интерес.
Тем не менее война привела к большим изменениям в части человеческой мобильности в целом. Помимо больших волн украинских беженцев, есть группы российских релокантов, а традиционные миграционные потоки из Центральной Азии приобретают более сложную географию. Проведенные среди мигрантов опросы показывают, что привлекательность России хотя и остается высокой, вместе с тем, все большую популярность приобретают и другие направления: Южная Корея, Турция, Канада, страны Восточной Европы, Великобритания и многие другие страны.
Как отмечает наш сегодняшний гость, трудовая миграция из Центральной Азии нуждается в серьезной нормализации – люди не просто выезжают на заработки, но ищут новые возможности для самореализации, которая по тем или иным причинам затруднена в странах происхождения. Миграция уже привела к существенным трансформациям в наших сообществах – от гендерных отношений до технологий и сельского хозяйства.
Сегодня эту тему обсуждает исследовательница из Кыргызстана Асель Мурзакулова.

Меня зовут Асель Мурзакулова, я являюсь исследовательницей, живущей и работающей в Кыргызстане. Сфера моих научных интересов достаточно широкая, но сегодня мы будем говорить о таком достаточно недавнем для моей карьеры направлении – это сельская трудовая миграция и сельское развитие в странах Центральной Азии. Но более ранний период моей исследовательской карьеры был посвящен вопросам конфликтов, приграничных споров, управлению природными ресурсами. Большой диапазон исследования, с которым можно ознакомиться на моей странице в Academia.edu.
Сегодня мы хотели бы в больше степени поговорить о том, как война в Украине меняет миграционные процессы на постсоветском пространстве, в первую очередь в странах Центральной Азии. Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию продолжается не одно десятилетие. Насколько это взаимовыгодно обеим сторонам? Какую форму эта миграция приобрела за это время? Например, как она оформилась в смысле законодательных, институциональных настроек? Сложилась ли в России благоприятная для мигрантов система? Расскажите пожалуйста.
Центральноазиатская миграция в Россию за последние три декады уже сформировалась в достаточно устойчивую систему, которая прошла испытание множеством кризисов. Например, крупный миграционный кризис, один из самых первейших – это начало 90-х годов, когда у нас был обратный процесс миграции. Она не была трудовой, ее очень часто в академических трудах называют этнической. Например, из Кыргызстана выехало более двух миллионов человек на постоянное местожительство, в основном в Россию, и также на историческую родину за пределами России. То же самое можно сказать о Казахстане и обо всех странах Центральной Азии.
Что касается специфической трудовой миграции из региона в Россию, то это также уже устоявшаяся система со своим институциональным оформлением как на двустороннем уровне между каждой страной региона с Россией, так и на более региональном уровне.
Но что я хотела бы подчеркнуть, что система формируется не только за счет институтов и каких-то законодательных механизмов, что, безусловно, является такой несущей системой, но прежде всего, конечно, устойчивость этой системы проверяется кризисами. Центральноазиатская миграция в Россию уже прошла достаточно большое количество кризисов, которые с одной стороны, казалось бы, нарушали эти потоки, но с другой стороны делали их более устойчивыми и более жизнеспособными. Если мы обратимся к кризису 1998 года, который был связан с более широким мировым экономическим кризисом, который в итоге вылился в девальвацию рубля (на тот период он потерял, я точной цифры не помню, около 40% в своей стоимости), то тогда доходы трудовых мигрантов резко обесценились. И мы видели очень серьезные последствия для региона на тот период.
Но несмотря на масштабные потери тех лет, система смогла выстоять и следующие кризисы, которые были уже связаны с введением западных санкций против России в 2014 году, пандемией 2020 года и следующим набором санкций, которые уже последовали за войной в Украине, мы видим, что трудовые потоки из Центральной Азии в Россию не ослабевают, несмотря на довольно большой пессимизм, который разделялся в экспертных кругах и после 2014 года, и особенно во время пандемии 2020 года. Все эти прогнозы оказались неверными. Если вы помните прогнозы, например, Всемирного банка, о том, что будет катастрофическое падение денежных переводов, и что восстановление будет очень медленным, болезненным, оказались нереализованными. Трудовые мигранты смогли выстоять и денежные переводы восстановились достаточно быстро. У этой системы запас прочности достаточно большой.
Мне кажется, также очень важно остановиться на обратной стороне этого процесса. Не только Россия формирует институциональные рамки для трудовой миграции, но также страны исхода, они также по-разному формируют свое институциональное оформление этого потока. Здесь мы тоже имеем, что называется, выученные уроки.
Если говорить по каждой стране, мы видим, что, например, в Узбекистане очень серьезно поменялся политический дискурс в отношении трудовых мигрантов и трудовой миграции. Например, в период правления Ислама Каримова, трудовые мигранты игнорировались, они не признавались как часть экономического процесса страны – для того, чтобы выехать на заработки в Россию, трудовым мигрантам приходилось получать фактически выездные визы, была большая проблема с получением загранпаспортов и было достаточно серьезное молчание и со стороны правительства в отношении тех проблем, с которыми сталкивались мигранты уже в России. Конечно, с приходом президента Шавката Мирзиеева политическая риторика резко изменилась. Мы видим большие подвижки в этом направлении. Правительство признало, что существует трудовая миграция из страны. Признало, что это также часть их мандата – сопровождать эти процессы.
Но, к сожалению, те инструменты, которыми сейчас начинают пользоваться (это не только касается узбекистанского правительства, а вообще в целом риторики в центральноазиатских правительствах), по упорядочиванию данного процесса основывается на опыте, например, стран Юго-Восточной Азии, которые институализировали очень жестко свои миграционные потоки или под медиацией правительства, или же через посредников таких, как агентства по трудоустройству. На мой взгляд, это не совсем правильный ход для всех нас, поскольку это повышает цену миграции. Если мы посмотрим на то, как развивались эти потоки, то они развивались же без поддержки и без медиации каких-либо государственных институтов и государственного вмешательства. Основывались на социальных сетях мигрантов, которые выступали и «агентствами по трудоустройству», и «агентствами по предвыездной подготовке». Это все в кавычках. Таким образом, цена трудовой миграции в России оставалась достаточно низкой для трудовых мигрантов. Можно было даже начать миграцию в долг, что становится просто невозможным при появлении большого количества посредников в лице различных агентств по трудоустройству или так называемого “организационного найма”. Поэтому, на мой взгляд, это было конкурентным преимуществом, на самом деле, вот этой системы, центральноазиатско-российской миграции, поскольку цена трансакционных издержек была достаточно низкая. Если мы говорим в сопоставительной перспективе на мировом уровне.
И здесь я хотела бы сказать, что сегодня я буду говорить, основываясь на данных и анализе, которые мы получили в результате пятилетнего исследования, которое называется «AGRUMIG – Оставляя что-то позади себя. Миграции и сельские общины в семи странах мира” в сравнительной перспективе, с такими странами как Марокко, Эфиопия, Китай, Непал, Таиланд, Молдова. И, конечно, это расширяет такое пространство анализа.
Что касается Кыргызстана, в принципе, политическая риторика всегда была достаточно благосклонна к этому процессу. И Кыргызстан изначально, еще с начала 90-х пытался урегулировать статус своих трудовых мигрантов на основе множества двусторонних соглашений с Россией и в последующем с вхождением в Евразийский союз. Вот по всем экономическим параметрам это было невыгодно. Но был очень важный такой аргумент “за” – это улучшение статуса трудового статуса кыргызстанцев в России. И поэтому это очень сильно перевесило чашу весов за вхождение в данной союз. Мы сейчас оставляем за скобками, привело ли это к ожидаемым результатам. Скорее нет, чем, да. Но, тем не менее, здесь важно показать, что каждая страна в регионе по-разному пытается институционализировать свои трудовые потоки в России.
Что касается Таджикистана, это единственная страна в регионе, которая имеет соглашение о признании двойного гражданства. И мы видим, что на протяжении всех этих трех декад после обретения независимости в 1991 году присутствие трудовых мигрантов из Таджикистана в России остается достаточно высоким. И никакие кризисы не ведут к резкому снижению этого количества.
Что касается Казахстана, то здесь очень интересно. Казахстан – это не только страна, которая отправляет мигрантов, но это также является страной, который принимает мигрантов. Миграционный профайл Казахстана в этом плане комплексный. И здесь можно сказать, что трудовая миграция из Казахстана в России имеет четко региональное отличие. В основном это циркулярная миграция из приграничных регионов Казахстана. Она достаточно разнообразна. Там присутствуют буквально все поколенческие группы. То есть нельзя сказать, что только молодежь ездит на заработки. Там есть достаточно прослойка и состоявшихся людей, даже пожилых людей. И эта миграция носит именно такую региональную особенность.
Что касается Туркменистана, здесь мы очень мало знаем на самом деле. И это связано с большим количеством ограничений, которые имеют исследователи в доступе к полю. И я думаю, что это вообще очень интересное такое направление, куда наш исследовательский взгляд должен быть направлен.
Я бы хотела сделать ссылки на исследования наших коллег. Есть очень большое отличие центральноазиатской миграции в Россию, в том плане, что институциональная среда России не является чем-то очень тотально чуждым для наших мигрантов. Поэтому они достаточно успешно осваивают российское пространство. Например, есть исследование Рано Тураевой, которое показывает, как трудовые миграции из Центральной Азии практически трансформируют культурный ландшафт Москвы через регулярное посещение мечетей, через сильное социальное присутствие в этом пространстве, пространстве репрезентации ислама в России. Есть исследование Марка Симона, которое показывает, как центральноазиатские мигранты используют культурное пространство, например, Москвы через аренду Домов культуры, которые оказались таким реликтом и невостребованной институцией среди самих москвичей. Есть очень интересное исследование Рустама Уринбоева, в котором он показывает, как трудовые мигранты в России выстраивают своё параллельное нормативное пространство, параллельное официальным органам, официальному законодательству. Они способны создавать, у них есть agency, создавать параллельные институты, которые помогают им эффективно решать множество правовых и других нормативных коллизий и встраиваться в этом пространстве благодаря своему социальному капиталу. Поэтому здесь очень важно подчеркнуть, что нормативные рамки трудовой миграции из Центральной Азии в России формируются не только государствами, правительствами, но они формируются самими мигрантами. И их агентность в этом процессе является очень значимой.
Спасибо, Асель, за очень развернутый ответ. Я думаю, что по результатам вашего исследования чуть позже мы еще поговорим, потому что это очень интересный аспект данной темы.
Сейчас мы хотелось бы задать Вам уточняющий вопрос. Действительно, мигранты, наверное, остаются такими самыми адаптивными к кризисам, разного рода потрясениям, пусть это будут экономические кризисы или даже политические, военно-политические какие-то потрясения. И вот если мы вернемся к сегодняшним событиям, которые сегодня происходят, только недавно закончилась пандемия, которая практически заморозила миграционные потоки. После этого уже началась война. И как вы сами рассказываете, если вопреки первоначальным ожиданиям число мигрантов из стран Центральной Азии в России не снижается, то изменилась ли сфера их применения, или интенсивность, или оплата их труда в России? Были разные сообщения о том, что трудовых мигрантов из Центральной Азии привлекают на работу на оккупированных территориях или же российские власти все же стимулируют мигрантов получить гражданство путем службы в вооруженных силах. Вы могли бы рассказать об этих аспектах?
Да, конечно. Здесь нужно сказать, что мы специально не занимались этим вопросом, то есть у нас нет каких-то уникальных данных на этот счёт. Но, конечно, мы занимаемся мониторингом и отслеживанием этих процессов. Во-первых, очень важно помнить, если мы отмотаем назад и посмотрим в ретроспективе, то такие процессы уже происходили в другой конфигурации, конечно, тогда еще это не были странами Центральной Азии, между Туркестаном и в то время Царской Россией. У меня просто такой флешбэк возник, когда начали активно публиковать новость о том, что центральноазиатских мигрантов нанимают на рытье окопов, на оккупированных территориях Украины, у меня произошёл такой флешбэк с 1916 годом. Тогда, конечно, территориальность была разная и это была совсем другая конфигурация, но применение труда – тогда же одним из триггеров к восстанию послужил Указ о мобилизации туркестанского населения на Первую мировую войну для рытья окопов. Я не к тому, что там история повторяется. Ни в коей мере. Я просто к тому, что уже, конечно, такие процессы были.
И сейчас, чем они отличаются, это, конечно же, то, что центральноазиатские мигранты делятся очень четко на две группы. Это те, кто имеет гражданство России и может быть призван в ряды российской армии. И те, кто не получил это гражданство, но, например, в процессе получения или намерен получить. И для кого есть вот эта инициатива правительства России участия в войне в обмен на гражданство. И третья группа – это трудовые мигранты, которые никак не связывают свою последующую жизнь после миграции с Россией, для которых присутствие в России заканчивается чисто экономическим интересом. Это заработать конкретно на дом, на содержание семьи до какого-то периода и выход из этого сценария.
Таким образом нужно сказать, что война в Украине она по-разному, сказывается на этих разных группах мигрантов. Конечно же, те мигранты, которые стоят под риском призыва, они стараются вернуться на родину. То есть мы видим, что это очень серьезно влияет, например, на гендерные потоки. Если в России находилась семья и вся семья имеет гражданство России, то скорее всего родители, имеется в виду отец, будут возвращаться на родину, или вся семья будет возвращаться на родину. Но поскольку источник заработка связан с российским рынком труда, то, скорее всего, женщина или не достигшие призывного возраста члены семьи останутся в России. Для тех лиц, которые не имеют гражданства, не подавали на него и не планировали вообще связать свою дальнейшую жизнь с Россией, то для них, конечно, это является очень большой такой западней, эти предложения на рынке труда. И здесь очень важную роль должны играть безусловно посольство, Ассоциации соотечественников, диаспоры, поскольку они должны информировать об этих рисках, которые несет за собой участие в такого рода работах.
И, конечно, нужно сказать, что эта дилемма, которая стоит перед мигрантами, например, которых приглашают рыть окопы на оккупированных территориях, звучит совершенно по-другому, когда вы находитесь там и когда мы вот обсуждаем это всё онлайн, сидя в Бишкеке и Алматы. Поэтому та дилемма и тот контекст, из которого действуют наши мигранты, находясь в России, совершенно иные. И я думаю, что, когда в общественных дискуссиях идет обсуждение этической стороны данного вопроса, мы должны, конечно же, понимать, что безусловно есть фундаментальные ценности и фундаментальные вещи. Но жизнь мигрантов очень сильно сопряжена с неопределенностью и уязвимостью. И поэтому для них эти сюжеты и эти практики звучат совершенно иначе.
И что касается вашего вопроса, нужно сказать, что здесь мигрантские сети оказались намного проактивнее, чем все правительства. Я здесь не выделяю никого конкретно. Мне кажется, здесь они все достаточно проактивно действовали. То есть самая актуальная информация, конкретные сценарии выхода из ситуации, конкретные пути были обсуждены, распространены и актуализированы именно в мигрантских whatsapp-группах, телеграмм-группах. Поэтому информация о том, как этого избежать, какие последствия это имеет, конечно же, были быстрее донесены до конкретных людей самими же мигрантскими сетями. Не правительствами, не какими-то другими организациями, а вот именно самими мигрантами.
А как сами мигранты из Центральной Азии в этой ситуации проецируют свое будущее? Если какие-нибудь попытки переоценить свои перспективы и рассмотреть какие-то альтернативные направления для миграции, связи с войной и ростом рисков попасть на эту войну? Может ли измениться ситуация в целом, если в экономике стран Центральной Азии неожиданно пойдет какой-то рост и возникнет большой спрос на рабочую силу уже здесь в своих странах, или трудовой избыток стран ЦА слишком велик и трудовая миграция неизбежна? Как вы думаете?
Я считаю, что мы должны отойти вообще от термина «миграция». Я считаю, что этот термин, на самом деле заставляет нас все больше, как показал ваш предыдущий вопрос, все больше говорить об интересах страны направления, чем об интересах отправляющих сообществ. Поэтому я предлагаю говорить не о трудовой миграции, а о человеческой мобильности. Потому что человек исторически – это же мобильная единица, то есть иммобильность является чем-то ненормальным на самом деле, а мобильность это и есть нормальность для человека. Поэтому, когда мы говорим, что люди ездят на заработки за пределами стран своего происхождения, это является абсолютно нормальным. И я считаю, что у нас вообще в регионе сложился такой достаточно негативный дискурс общественный дискурс о трудовой миграции как раз-таки, потому что мы очень однобоко воспринимаем данный процесс.
Давайте мы представим, что в нашем регионе не будет возможности для человеческой мобильности, что каждый будет способен реализовывать себя только в рамках своих национальных границ. Разве это вы считаете более благополучной ситуацией? На мой взгляд, нет. Конечно, мы должны говорить о рисках, связанных, сопряженных с правами человека, о том, что существует явное неравенство в доступе к этому рынку, трудовому рынку и так далее. Но вместе с этим мы также должны говорить о том, что есть очень масса возможностей для людей, которые не могут самореализоваться в странах происхождения. Это же так, например, если мы возьмем Таджикистан, Кыргызстан, страны, которые традиционно позиционируют себя как аграрные, но не все люди в этих странах хотят этим заниматься. Есть люди, которые хотят попробовать себя в каких-то других нишах. И это абсолютно нормально, что люди ездят в разные страны реализовываться.
Поэтому я бы тоже хотела через наш сегодняшний разговор призвать нас дискурсивно трансформировать не только термин, но его референтное поле. Когда мы говорим «трудовая миграция», у нас сразу возникает определенного рода референтное поле, которое связано с виктимизацией мигрантов, с обязательной эксплуатацией и так далее. Но если мы перевернем эту картинку и скажем, «ну хорошо, они не будут куда-то ездить, будут в своих странах только находиться, в которых, грубо говоря, построят очень много заводов». И это будет ли это картиной благоденствия? Я считаю, что нет. Поэтому давайте мы как-то будем более комплексно смотреть на этот процесс.
Я не думаю, что, если экономика в странах Центральной Азии будет достаточно расти более активно, что трудовая миграция прекратится. Я не связываю это исключительно с демографическими характеристиками наших стран. Я считаю, что это прежде всего связано с тем, как принимается решение о миграции. Какой образ будущего у разных поколений стоит перед глазами. И не всегда мигрант уезжает из-за бедности. Есть очень много людей, которые уезжают, чтобы избежать семейных проблем. Есть люди, которые уезжают, чтобы получить какую-то профессию. Есть люди, которые уезжают, чтобы попробовать себя, свои силы. Есть очень много разных историй. И смотреть на весь этот поток только с позиции виктимизации мигрантов я бы не стала.
Поэтому я считаю, что эта мобильность людей из Центральной Азии будет продолжаться. Я согласна с вами, что страны назначения будет диверсифицироваться. И мы сейчас видим очень активные действия со стороны правительств, например, правительства Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана очень стараются диверсифицировать свои потоки, через Министерство иностранных дел заключают различные двусторонние соглашения с разнообразным набором стран. И, конечно, сами люди тоже хотят получить разнообразный трудовой опыт. Например, сейчас наши данные по Кыргызстану показывают, что для молодых людей Россия уже не является столь привлекательным направлением, как, например, южнокорейское направление или недавно открытый коридор для сельскохозяйственной миграции в Великобританию, Польшу. Да, наши трудовые мигранты начинают достаточно активно осваивать нишу водителей большегрузного транспорта в Восточной Европе. То есть такие подвижки, конечно, имеют место быть. Они не такие масштабные. И, конечно же, российский трудовой рынок сейчас невозможно заменить какой-то другой страной, просто нет такого объема.
Плюс, когда наши трудовые мигранты или мобильные люди выезжают или выходят на более глобальный рынок труда, там, конечно же, очень важна компетенция человека, информационная компетенция, определенные навыки. И здесь, конечно, страны, отправляющие мобильных людей, должны предоставлять возможность обрести эти компетенции здесь. Таким образом, на мой взгляд, трудовая мобильность она есть, она будет и, скорее всего, она будет диверсифицироваться. Но пока мы не видим рынка труда такого же объемного как российский, который мог бы в ближнесрочной перспективе как-то сместить это направление в другую сторону. Но все-таки все начинается, на самом деле, с пионеров миграции. Это конкретные люди, которые первые едут в определенные страны, осваиваются там и устанавливают эти миграционные коридоры, которые в последующем уже через масштабирование могут привести к формированию миграционной системы. Мы только в начале этого процесса.
Как я уже говорила, например, в нашем исследовании, сопоставительном анализе с разными странами, например, мароккано-европейская миграционная модель, которая существует уже продолжительное количество времени, показывает, что это не закончится. То есть большое количество стран в мире продолжают быть странами исхода или трансформируются. Например, возьмите скандинавские страны. Те же шведы долгое время ездили на заработки в Германию, в Соединенное Королевство. А потом шведская экономика стала, наоборот, привлекательной для трудовых мигрантов из других стран Европы. То есть, я к тому, что эти роли они меняются, это все очень темпорально. И поэтому очень сильны эти алармистские воззрения о том, что эта зависимость трансформируется в более серьезную зависимость. Я считаю, что мы не должны им поддаваться. Это все темпорально. Все временно. И эти роли тоже меняются.
Я даже могу предвосхитить Ваш следующий вопрос по поводу обратной миграции в страны Центральной Азии. Но давайте я не буду его озвучивать.
Да, действительно, я хотел бы поинтересоваться о том, как меняется роли наших стран, и Центральной Азии и России? Сегодня мы наблюдаем обратный поток, релокантов или трудовых мигрантов, кстати, как их правильно теперь называть? Или это тоже человеческая мобильность? То есть, речь идет о том, что граждане России теперь переезжают в страны Центральной Азии. И к каким изменением это уже приводит здесь в нашем регионе? Например, создают ли российские граждане ощутимую конкуренцию на местных рынках? Какое отношение со стороны местных сообществ и правительств к российским релокантам или трудовым мигрантам Вы наблюдаете? Расскажите, пожалуйста.
Не хочу звучать как бы однотипно, но мы также имели эту практику в прошлом. То есть страны Центральной Азии, например, в конце XIX начале XX века также были регионом, который принимал трудовых мигрантов или мобильных людей из России на своей территории. То, что мы сейчас видим, это очень похоже. Например, это очень интересно, я недавно была в Москве и разговаривала со многими людьми, нашими трудовыми мигрантами. И когда я задала вопрос, как вы воспринимаете эту войну? И один из моих респондентов, сказал – «это так же, как и Соединенные Штаты против Вьетнама». И для меня это было очень интересно, что респондент проводит эту аналогию. И по поводу релокантов там же тоже была очень большая волна американских граждан, которые переезжали в Канаду, которые были против американского вмешательства и вообще американского вторжения во Вьетнам. И очень большое количество именно такого интеллектуального слоя, среднего класса, был такой поток. То есть я к тому, что это не что-то уникальное, это уже было в истории, в миграционной истории или истории человеческой мобильности.
И если говорить о том, как правительства центральноазиатских государств отнеслись, то нужно сказать, что в целом все страны региона достаточно с пониманием отнеслись к положению данных людей. Какие-то правительства пытались даже как-то капитализировать этот поток для себя, принимая какие-то программы «Цифровых кочевников», «креативной экономики». Но мы не видим, что это принесло какое-то очень существенное влияние.
Что касается локального рынка труда, только в каких-то очень узких сегментах, возможно, произошла замена работавших в компаниях на определённых позициях людей на релокантов. Но здесь, я бы сказала, что произошел переток. То есть если те релоканты, которые смогли, например занять определенные ниши, то это очень узкие, конкретные узкие специализации. Например, IT-сфера, в банковском секторе. Если они потеснили где-то казахстанских специалистов, казахстанские специалисты потеснили кыргызстанских, а кыргызстанские в свою очередь перетекли в таджикистанский сегмент. Но это очень-очень маленькие коллективы, которые в большинстве своем не очень сильно заметны на рынке труда.
Здесь нужно сказать, что, например, специфика нашего рынка труда, например, в Кыргызстане, что здесь нет какой-то серьезной конкуренции. Потому что основной рынок труда — это задействование в неформальной экономике. Это реэкспорт, это определенные услуги. И заработные платы в этом секторе, они, конечно, не будут привлекательны для большей части релокантов.
Ну, конечно, основное влияние было на рынке аренды недвижимости. Мы знаем, что был такой очень сильный всплеск цен на аренду квартир в определенных городах. Но потом это всё нормализовалось через 3-4 месяца, цены начали снижаться. И этот аспект привёл к определенному негативному общественному мнению, поскольку на съемных квартирах находятся студенты, люди, у которых недостаточно, например, заработка на покупку своего жилья, достаточно уязвимые группы экономические. Но что касается в целом, не наблюдались какие-то очень резкие, антагонистические ответы или реакции на данный поток. Были какие-то очень-очень редкие кейсы, но в целом, достаточно, с пониманием тот поток был принят.
В середине разговора мы немного затронули тему о том, как эти миграционные процессы в целом влияют на наши общества в Центральной Азии. Я предлагаю поговорить об этом поподробнее. Мы знаем, что ваши исследования фокусировались как раз на таких вопросах. Какие изменения здесь вы наблюдаете в плане демографии, местных экономик, традиционного уклада жизни? Что меняет миграция в Центральной Азии в наших сообществах?
Спасибо за этот вопрос. Очень многое, что меняет. Где-то это очень выпукло видно уже, где-то эти процессы недостаточно читаемы, но тоже активно происходят.
Во-первых, нельзя сказать, что трудовая мобильность оказывает одно масштабное влияние. В чём сложность этого процесса, что он оказывает очень многоаспектное, разное и очень часто противоположное влияние в рамках даже очень близких по многим аспектам общин или отправляющихся обществ. Например, если мы возьмём такой аспект, как трудовая мобильность влияет на гендерные роли. Мы можем видеть, на примере большого количества исследований, что есть очень-очень разные влияния. Например, трудовая миграция, если мы смотрим на трудовую миграцию женщин, например, из Кыргызстана, то очень большое отличие кыргызстанской трудовой миграции является, что есть значительное присутствие женщин в этом потоке. К сожалению, сейчас данные по гендерной разбивке трудовых мигрантов недоступны, поскольку с 2016 года российское правительство ликвидировало в своей структуре Федеральную миграционную службу и передала её функции Министерству внутренних дел. А Министерство внутренних дел перестало публиковать эту статистику, которая раньше была в принципе доступна. Это разбивка потока трудовых мигрантов по полу, возрасту, которая очень была важна для нас исследователей, для понимания того, какие группы двигаются, какая демографическая картина там. Поэтому сейчас то, что буду говорить это все-таки немного устаревшие данные.
Так вот, по данным 2016 года около 40% трудовых мигрантов из Кыргызстана в России – женщины. А если мы посмотрим на разбивку по возрасту, это были женщины совершенно разных возрастов. То есть это были девушки, которые после окончания девятого класса сразу уезжали в Россию. Это были женщины, которые в составе семьи уезжали. Это были разведенные женщины также в этом потоке. И были также пожилые женщины. И когда мы смотрим на то, как этот трудовой опыт влиял на их позиционирование в семейных иерархиях, мы видим совершенно разные эффекты. Например, для молодых женщин, молодых девушек, которые после окончания девятого класса уезжали, этот опыт, с одной стороны, приводил к тому, что у них появлялось определенная экономическая свобода за счет того, что у них была возможность для собственного заработка, которая иногда могла трансформироваться в свободу выбора. Например, партнера или траектории своего жизненного уклада, что достаточно ограничено для сельских молодых женщин. Но в то же время это достаточно сильно делало их уязвимыми на брачном рынке или – поскольку, может быть, «брачный рынок», ужасно звучит – в брачных стратегиях. Потому что существует достаточно устойчивый социальный стереотип, что молодая женщина, побывавшая в миграции, это не очень выгодная партия в качестве невесты. Что я хочу здесь с этим сказать, что последствия они очень многоаспектные и очень разные. То есть в каком-то аспекте молодые женщины получают возможность получить определенную профессию, какие-то навыки обретают, становятся более кризисно устойчивыми. Но, с другой стороны, они становятся более уязвимыми в формировании каких-то жизненных стратегий, с точки зрения там брачных уз.
Однозначно мы можем видеть, что трудовая миграция имеет позитивное влияние на разведенных женщин, которые не имеют поддержки. Как правило, разведенные женщин с детьми вынуждены оставлять своих детей на попечении своих родственников, родителей. И трудовая миграция помогает им отделить свое домохозяйство от расширенной семьи. То есть, грубо говоря, за определенное время женщины накапливают на собственное жилье, куда они могут отделить своих уже подросших детей. Конечно, социальная цена этому достаточно высокая. И здесь, мне кажется, мы должны очень много говорить и нормализировать транслокальные семьи, потому что каждодневный опыт этих детей, которые растут вдалеке от своих родителей, и этот весь дискурс о нормальной семье, которая никуда не двигается, в которой есть отец, мать и все вместе, это же с их каждодневной практикой входит в конфликт. И дети испытывают очень большие эмоциональные стрессы, психологические травмы. И поэтому в этом плане, конечно же, заинтересованные стороны должны разрабатывать программу поддержки для таких детей, для оставшихся позади.
Также, конечно, трудовая миграция очень негативно влияет на пожилых людей, вне зависимости от их пола. Поскольку очень часто их нагрузка возрастает по уходу за оставшимися позади детьми. То есть бабушки, дедушки вынуждены исполнять роль родителей. Во всех центральноазиатских обществах была такая традиция, что старшего ребенка отдавали родителям на воспитание. Но сейчас эта традиция трансформировалась, потому что раньше это была договоренность об одном ребенке, от определенной семьи, как правило, старший ребенок сына. А теперь получается, что, если дочь уезжает в миграцию, она оставляет своих детей. Сын уезжает в миграцию, то он оставляет своих детей. Если супруги вместе или если они в разводе, то есть нагрузка на старшее поколение очень сильно увеличилась. И они уже начинают исполнять те роли, которые не были в их восприятии старости восприняты как нормальность.
Исходя из этого, в нашем исследовании мы делаем рекомендацию для всех правительств и для всех заинтересованных сторон, что наши исследования, наши политики, какие-то проекты, работающие в этой сфере, не должны быть направлены сугубо на урегулирование правового статуса пребывания в России, они должны быть обращены назад, то есть на отправляющие сообщества. Необходимы очень мощные системы поддержки тех сообществ и тех семей, которые испытывают стресс в связи с выездом членов семьи в трудовую миграцию. Ведь это же также очень сильно влияет на распределение труда внутри семьи. Например, если уезжает кто-то из родителей, резко возрастает нагрузка именно на старших детей, которые вынуждены исполнять роли и обязанности родителей по отношению к младшим детям. И если взять большие данные, то они показывают, что, например, у нас есть серьезный отток детей после 9-го класса. То есть они не заканчивают полные 11 лет. Они вынуждены выходить на рынок труда раньше. Также видим, что это имеет негативные последствия для здоровья этих детей. И здесь нужно понимать, что это нагрузка не свойственна старшим детям. Но они вынуждены ее выполнять. Здесь должны быть определенные программы поддержки, которые бы помогали им справляться с этими новыми вызовами.
Если говорить не о гендерном, а поколенческом аспекте, то мы можем видеть, что трудовая миграция может вести к оспариванию власти старших. Мы видим, что во всех центральноазиатских обществах есть такой авторитет и власть старшего поколения. Как трудовая миграция влияет на это восприятие и может бросать вызов этой традиции? В первую очередь это, конечно же, контроль капитала. Есть такое интересное исследование Медины Атиевой, в котором она показывает, что семьи, которые находятся в трудовой миграции на Сахалине, стараются уже избегать монетарных отношений со своими родственниками, оставшимися позади. То есть со своими родителями, братьями и сестрами, которые находятся в стране исхода. Это показывает, что капиталистические отношения приводят к определенной адаптации. Там разные сценарии могут быть: сценарии адаптации, сценарии эрозии, сценарии оспаривания конфликта, оспаривания вот таких так называемых традиционных норм, как семья должна функционировать. Есть очень интересные тоже исследования по Узбекистану, которые показывают, что, например, наличие сотового телефона приводит к тому, что невестки становятся более атомизированы от воли свекрови. И что, если раньше в домиграционной нормальности свекровь была очень важным медиатором, через которую проходила коммуникация, и за счет этого она обладала инструментами власти в семье, между сыном и мужчинами в семье, женщинами-невестками, то сейчас наличие сотового телефона может оспаривать эти властные иерархии. Потому что у молодых женщин появляется собственный канал, грубо говоря, коммуникации с мигрантами-мужчинами, и это позволяет им как-то балансировать эти традиционные властные иерархии.
Таким образом можно сказать, что трудовая миграция оказывает многоаспектное влияние на то, как понимается институт семьи в наших странах, как он трансформируется. Но есть, например, очень фундаментальное исследование таджикистанского исследователя Софи Касымовой. У нее вышло несколько монографий на тему влияния трудовой миграции на гендерные роли, гендерные отношения в Таджикистане. И она показывает, например, что вот этот сценарий с сотовыми телефонами не работает на примере тех общин, которые она изучала в Таджикистане, что, например, трудовая миграция может наоборот вести к такому сценарию усиления такого патриархального традиционного сценария, но не для всех, конечно, но это тоже может иметь место быть. Это, что касается социального аспекта.
А если мы говорим об экономическом аспекте, который вообще просто, на мой взгляд, остается незамеченным и пропущенным в нашем восприятии трудовой мобильности, то трудовая мобильность, например, из Кыргызстана серьезно трансформировала сельскую экономику. Если мы посмотрим на данные, например, покрытия мобильными сетями Кыргызстана, мы можем видеть четкую корреляцию между ростом покрытия страны мобильными сетями и денежными переводами. Мы видим, что транслокальные сети сформировали просто бешеный спрос на мобильную связь. И это привело к такому технологическому развитию. Кыргызстан в отличие, например, от Казахстана является страной с очень сложным горным ландшафтом. И установление любой инфраструктуры здесь является достаточным вызовом с технической стороны. И в Кыргызстане не правительства, не какие-то доноры стимулировали и субсидировали это развитие. То есть это развитие, именно доступ к мобильной связи, к мобильному интернету было спровоцировано, поддержано и продвинуто благодаря тому спросу, который был со стороны транслокальных семей, семей мигрантов.
Если мы говорим о таком очень важном аспекте сельского развития, как сельское хозяйство, мы видим очень серьезную трансформацию. Например, данные, основанные на базе “Жизнь в Кыргызстане” (это такое большое исследование, которое проводится в Кыргызстане, уникальное исследование), мы можем видеть, что, люди, живущие в сельской местности, уже 40% своего труда не связывают с сельским хозяйством. То есть это торговля, какие-то перепродажи, это, например, услуги, как, например, транспортные услуги. То есть люди в сельской местности начинают уже зарабатывать не на сельском хозяйстве. А в каких-то других нишах, в строительстве. И это очень интересно, потому что если мы идем к большим данным, то мы видим очень серьезные и глубокий спад сельхозпроизводства в этих странах. В Кыргызстане, например, если мы посмотрим на конец 90-х, там был самый большой период, когда сельское хозяйство занимало самую большую долю в ВВП страны, доходило до 40 процентов. То данные 2019 года показывают, что сельское хозяйство занимает всего лишь 12% в нашем ВВП. То есть, когда начинается этот традиционный дискурс о том, что Кыргызстан является аграрной страной, уже, скорее всего, не так. У нас, конечно, 65% населения проживает в сельской местности. Но это уже сельская местность без сельского хозяйства. Или, конечно, не без сельского хозяйства вообще как такового, но оно просто уже адаптировано к тем источникам дохода, которые имеют транслокальные семьи. Они больше уже опираются на источники дохода, которые исходят от трудовых мигрантов, от денежных переводов, чем от продажи своей сельхозпродукции. Конечно, это имеет негативные последствия для продовольственной безопасности страны, поскольку страна перестает производить достаточно продовольствия для самообеспечения и вынуждены покупать его. Поэтому мы становимся очень сильно зависимыми от флуктуации цен на мировом рынке на продовольствие. И это, конечно, плохо, потому что уязвимость появляется очень серьезная.
Но, с другой стороны, это показывает, как люди способны формировать свою экономическую нишу, свою экономическую повестку. И в этом плане, я думаю, что нужно в нашем анализе избегать дихотомических оценок, как это хорошо или это плохо. Видеть вот эту многосложность этого процесса и признавать эту многосложность. И тогда я думаю, в наших дискуссиях, в таком общественном пространстве, мы будем отходить от этих однозначных оценок, как часто я слышу “байкуштар”, а тоже признавать их очень важный, серьезный вклад.
Ссылки для дополнительного чтения:
- Полиси бриф на русском: Включение потребностей детей мигрантов и отправляющих сообществ в повестку дня развития сельских школ в Кыргызстане https://www.osce-academy.net/upload/file/pb_8_ru_final_version.pdf
- Policy Brief: Applying a Rural Development Lens to Migration Policy in Kyrgyzstan https://osce-academy.net/upload/file/policy_brief_9.pdf
- Project report: https://agrumig.iwmi.org/wp-content/uploads/sites/41/2023/01/AGRUMIG-Project-Seven-Country-Reports.pdf
- Comparative article: https://link.springer.com/article/10.1186/s40878-021-00254-0
- Research Report: https://staging.ucentralasia.org/media/pdcnvzpm/uca-msri-researchpaper-7eng.pdf