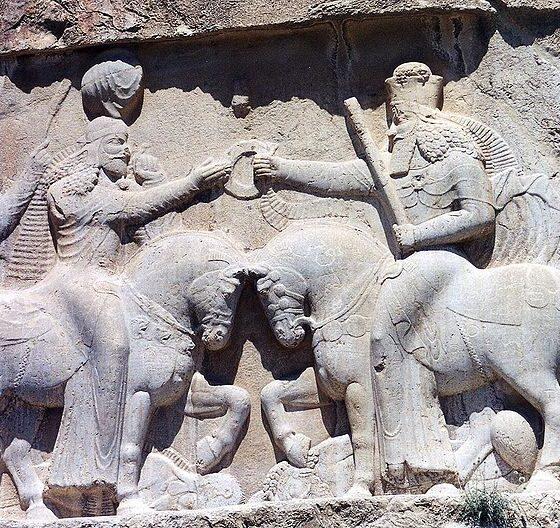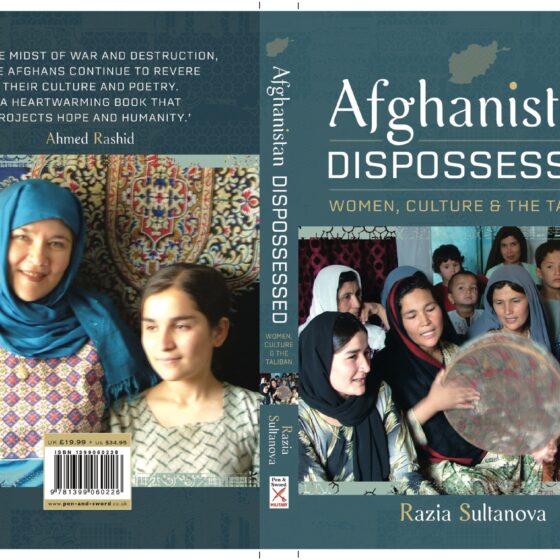В своих работах по Центральной Азии и Украине Джесси Дрисколл фокусируется на войне и послевоенном периоде. Конфликты 1990-х годов в Грузии и Таджикистане и конфликт в Донбассе, предшествовавший войне в Украине, можно анализировать с внутренних и внешних углов, и Дрисколл изучал все причины и последствия. Вторжение России 24 февраля 2022 года не возникло на пустом месте, и пока оно продолжает дестабилизировать региональный порядок, возникает много вопросов, касающихся Центральной Азии: насколько стабильны страны Центральной Азии и их элиты? Может ли сценарий Донбасса произойти в Казахстане? Восприимчивы ли жители Центральной Азии к российским нарративам? Нужна ли им собственная система безопасности?

Джесси Дрисколл – специалист по Центральной Азии, Кавказу и русскоязычному миру. Он является доцентом политологии и председателем Института глобального лидерства Калифорнийского университета в Сан-Диего. В своей первой книге Warlords and Coalition Politics in Post-Soviet States “Военные командиры и коалиционная политика в пост-советских государствах» (Cambridge University Press, 2015) Дрисколл показывает, как после относительно коротких периодов анархического насилия в Грузии и Таджикистане возникли хорошо функционирующие внутренние иерархии. Его последняя книга, написанная в соавторстве с Домиником Арелем, Ukraine’s Unnamed War: Before the Russian Invasion of 2022 «Неназванная война в Украине: Перед российским вторжением 2022 года» (Cambridge University Press, 2023), была опубликована вскоре после начала войны между Украиной и Россией.
Ваша первая книга Warlords and Coalition Politics in Post-Soviet States “Военные командиры и коалиционная политика в пост-советских государствах” (2015) была посвящена процессам государственного строительства после войны. Вашими странами для исследования были Грузия и Таджикистан. Сегодня в Евразии идет более масштабная война. Как, по вашему мнению, она повлияет на региональный порядок в Евразии? Если после первоначального постсоветского распада происходил некоторый процесс регионализации, то увидим ли мы полный развал порядка с центром в России или нет?
Очевидно, что это очень большой вопрос, который требует рассуждений о будущем. Было бы несколько безответственно дать на это конкретный ответ. Как социологи, мы все должны начинать свои ответы на подобные вопросы со слов “Я не знаю” или “Пока рано говорить”.
Как вы знаете, моя первая книга посвящена 1990-м годам. В это время, я думаю, можно с уверенностью сказать, что модель москво-центричного порядка была общепринятой. Это как колесо и спицы в велосипеде – так виделся естественный процесс организации вещей в имперском метрополисе, и с практической точки зрения это также было необходимо. Россия в то время была нестабильной, и поддержание хороших отношений с Ельциным было гораздо важнее, чем, откровенно говоря, все происходящее на периферии. Для контроля над вооружениями и для предсказуемости (чтобы не допустить замены Ельцина кем-то другим, а это могли быть вновь коммунисты в середине 1990-х годов), это было главным приоритетом – более главным, чем многое другое. Следует также сказать, что мы быстро поняли, что в вопросах функционирования Совета Безопасности ООН, где Россия занимает место, с Россией придется заключить некую сделку. Думаю, что именно в 1994 году из-за Гаити между американскими и российскими дипломатами впервые состоялся дружеский, но напряженный разговор об обмене голосами в Совете Безопасности ООН по вопросу главенства в миротворческих операциях ООН. США хотят, чтобы операцией в Гаити руководили США? «Хорошо, но вам нужно перестать так много говорить о Чечне. Мы, Россия, будем заниматься миротворчеством в Таджикистане и Грузии, а вы, США, будете заниматься миротворчеством в Карибском бассейне”.
Язык “сфер влияния” – это, конечно, язык девятнадцатого века, и я не пытаюсь его использовать, чтобы кого-то обидеть, но я думаю, что это был способ, через который Совет Безопасности ООН справлялся с ростом миротворческих операций ООН в 1990-х годах, и он, как бы мягко выразиться, “вкрался” в разговор о сферах влияния. И именно об этом моя первая книга: что происходит, когда ООН возглавляет Россия. И поэтому, когда вы сравниваете Таджикистан с Грузией, здесь российское присутствие было неизменным с таджикскими или грузинскими адаптациями. Однако считалось само собой разумеющимся, что ООН как машина по поддержанию мира и прекращению войны будет работать под руководством России на территории, которая недавно была Советским Союзом. Я думаю, для большинства это считалось естественным. Если что и ясно в войне в Украине, так это то, что многие украинцы не считают это естественным.
Отчасти почему между Соединенными Штатами и Россией существовала такая легкая взаимодополняемость интересов в отношении стран Центральной Азии, это потому, что Россия знала, что Соединенные Штаты, после восстановления Таджикистана, никогда не попытаются выгнать Россию и пригласить таджиков вступить в НАТО.
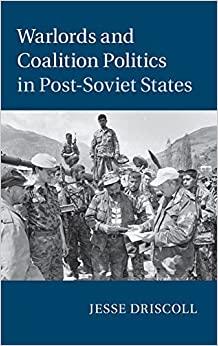
Полагаю, еще одна вещь, которую я хотел бы сказать по этому поводу, заключается в том, что в начале и середине 1990-х годов, в период, который является основной темой моей первой книги, никто не говорил о расширении НАТО на Кавказе или в Центральной Евразии. Отчасти почему между Соединенными Штатами и Россией существовала такая легкая взаимодополняемость интересов в отношении стран Центральной Азии, это потому, что Россия знала, что Соединенные Штаты, после восстановления Таджикистана, никогда не попытаются выгнать Россию и пригласить таджиков вступить в НАТО. В Грузии конкуренция между Западом и Россией была более очевидной с самого начала, я думаю, поэтому общая цель в том, чтобы покончить с анархией, была менее очевидной. В любом случае, это – о моей первой книге.
Спекулируя на тему будущего, еще один важный момент заключается в том, что в этом языке о деколонизации, который действительно лежит в основе того, о чем вы спрашиваете в отношении Евразии с центром в России, есть много всего, что все еще очень сильно зависит от того, как эта война будет представлена в исторической памяти людей, которые не являются американцами, не являются русскими, а также не являются украинцами. Третьи стороны – те государства, которые находятся на, назовем это периферией, чтобы использовать немного грубый термин – как эти люди собираются в конечном итоге интерпретировать это? Если вы получаете все свои новости от Al Jazeera, или вы живете в Мумбаи, Лиме или Лагосе, о чем вы думаете? Что вы будете думать о том, что произошло в этой войне через 10 лет? Это не то, что мы можем легко увидеть, пока нет.
Поэтому я приведу вам два примера того, насколько широко могут расходиться точки зрения. С одной стороны, можно считать, что происходящее в Украине следует рассматривать как колониальную войну и геноцид. Тогда может возникнуть моральное и юридическое обязательство сделать определенные шаги, начиная с исключения России из Совета Безопасности ООН, если вникнуть в некоторые разделы архитектуры международного права. Если это геноцид, а некоторые люди действительно верят в это, тогда порядок вещей очевиден. Есть закон, который дает один набор инструментов. С другой стороны, есть много людей, которые остаются очень открытыми к идее, что НАТО каким-то образом спровоцировало всю эту войну, а бедная маленькая Россия просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Я думаю, что оба этих нарратива останутся в обращении. Мне неясно, как мы ведем счет в этой игре или как это отражается в исторической памяти. У нас на Западе иногда возникает соблазн объявить победу раньше времени только потому, что мы думаем, что знаем, чем закончится история.
Я сомневаюсь, что Россия исчезнет. Может быть, она не исчезнет, но Россия может радикально порвать с неприглядными частями своего путинского прошлого и станет более привлекательным, богатым государством. Возможно, Россия станет лучшим государством, а затем пройдет время, и люди в Украине действительно захотят добровольно стать частью сферы влияния с новым российским государством. То есть, опять же, я просто воображаю ход событий, но США и Вьетнам на самом деле сейчас – довольно хорошие союзники. Украине и России до этого еще далеко, но это что-то смутно видимое, если посмотреть на определенные исторические аналогии. Деколонизация – это интересный процесс. Деколонизация может происходить в очень жестоком сценарии, но иногда возникает чувство родства после насилия, когда появляется действительно что-то общее, когда обе стороны уважают друг друга в военном отношении и обе знают, что достойны этого уважения. Это не происходит сразу, а иногда вражда длится десятилетиями, которые превращаются в столетия. И то, и другое может произойти. Здесь много непредвиденных обстоятельств. И то, и другое может произойти одновременно, потому что подобные процессы примирения могут занять очень, очень много времени – если они вообще произойдут.
Возвращаясь к вашему фокусу на гражданских конфликтах, тревожит ли вас что-то в недавних конфликтах в Казахстане, Узбекистане или соседских конфликтах между Кыргызстаном и Таджикистаном? Могут ли эти внутренние конфликты разгореться только потому, что в более широком масштабе происходит общий беспорядок?
Конечно, я обеспокоен насилием. Особенно меня беспокоит то, что произошло в Казахстане. Это первое, что нужно сказать. Это страшно и тревожно.
Но я не думаю, что это связано с общим беспорядком в более широком масштабе. Я думаю, что на самом деле это просто естественное трение сложных стран в сложном соседстве. И хотя каждая смерть – это трагедия, правда в том, что сотня людей может погибнуть более или менее без причины в беспорядочном конфликте в той части мира, где разозленный народ смешивается, государственные границы не очень хорошо демаркированы, и это все происходит на фоне социальных/экономических потрясений. Так что по сравнению с этими потрясениями, я не думаю, что полезно говорить о вторжении Таджикистана в Кыргызстан. Потенциально в Центральной Азии есть гораздо более серьезные проблемы. Я думаю, что наиболее опасными, наиболее способными привести к массовым убийствам, являются проблемы внутригосударственного характера. Я не знаю достаточно о том, что произошло в Казахстане, чтобы сказать наверняка, но, думаю, все могло быть гораздо хуже. Я беспокоюсь о распаде государства в Центральной Азии, как ни о чем другом.
Должен сказать, что я довольно оптимистично отношусь к способности стран Центральной Азии, по крайней мере, на уровне их правительств, преодолевать личные и этнические разногласия. Даже когда лидеры явно ненавидят друг друга, а их народы настроены националистически, они все равно могут в принципе пожать друг другу руки и потушить проблемы, потому что они – соседи. Все они понимают, что проблемы, которые возникнут в результате распространения кризиса беженцев, будут угрожать политической стабильности каждого, причем не всегда предсказуемым образом, и, безусловно, сделают хуже всем.
Сегодня много спорят о роли ОДКБ. Нуждается ли регион в более надежном механизме безопасности?
Когда речь идет о договоренностях в сфере безопасности, все они являются кооперативными, и именно это заложено в язык договоренностей в международных отношениях (МО). Итак, давайте поговорим о спросе и предложении.
Здесь есть несколько вопросов. Армения наотрез отказалась принимать ОДКБ всего несколько недель назад. Кыргызстан отменил учения в октябре. На первый взгляд, речь шла о том, чтобы Кыргызстан использовал ОДКБ в качестве платформы для того, чтобы усилить свой голос в кыргызско-таджикском пограничном споре. Но мне совершенно ясно, что отчасти Кыргызстан сигнализирует Западу, что “мы вовсе не без ума от ОДКБ”. Все очень внимательно следят за Украиной, потому что от этого зависит, каким будет потенциал России, насколько изолированной будет Россия, каким союзником или противником будет Россия. Будущее российской власти решается на поле боя в Украине. Это сторона спроса.
Что касается предложения, то я думаю, что ОДКБ или нечто подобное ей, вероятно, никогда не исчезнет. Это потому, что Россия одержима, и, возможно, вполне обоснованно, своим статусом в мире. Это означает, что если будет существовать союз, обеспечивающий безопасность, в который ее никогда не пригласят вступить – а я говорю о НАТО, – то Россия должна иметь свой собственный союз, обеспечивающий безопасность, который она может в своем национальном нарративе объяснить как свой ответ НАТО. Россияне действительно представляют себе свой великодержавный статус как жизненно важную часть своей национальной идентичности. Я слышал, как говорят: “Если Соединенные Штаты могут нарушать международное право и вторгаться в Ирак, то мы, русские, можем тоже нарушать международное право и вторгаться в Украину”. И я думаю, что этот аргумент действительно убеждает многих россиян, которые в глубине души верят в это или что-то подобное. Это действительно убеждает людей. Лучшая научная работа, которую я читал по этому вопросу, принадлежит Деборе Уэлч-Ларсон и Алексею Шевченко – у них есть набор статей, которые собраны в очень хорошую книгу под названием Quest for Status (“Поиск статуса”).
Соединенные Штаты, честно говоря, иногда извлекают немалую пользу из того, что у России есть своя сеть. Иногда мы используем эту сеть, например, когда нам нужно было быстро вывезти оборудование из Афганистана, и мы не могли попросить Пакистан – это было сделано при сотрудничестве всех приграничных государств, которые являются членами ОДКБ. Иногда многосторонние организации – это лучший способ координации действий. Для ясности, это не означает, что США использовали ОДКБ для логистики, совсем не так, но есть своего рода реалистичный аргумент в пользу сотрудничества в решении крупных проблем. Опять же, если использовать жаргон теории международных отношений, мы иногда говорим о решении рыночных провалов с помощью сотрудничества. Эти провалы рынка потенциально связаны с некоторыми действительно крупными вещами, которые могут иметь очень плохие последствия, если мы ошибемся: контроль над вооружениями, обмен разведданными для темных сетей в глобальной войне с терроризмом; режим нераспространения ядерного оружия; экологические беженцы. Последнее особенно пугает меня в связи с изменением климата. Если в Центральной Азии внезапно возникнет нехватка пресной воды и люди начнут очень быстро перемещаться – по 10 000 человек за раз – вам понадобится какая-то транснациональная структура, чтобы остановить людей, чтобы они не были раздавлены насмерть или не умерли от облучения. Вооруженные силы являются последним средством государства в таких кризисах.
Нужно ли это организовывать через ОДКБ? Нет. Можно представить себе новую организацию, но если представить ее без участия России, возникает вопрос, кто будет ее возглавлять. Будет ли это Китай? То есть, возможно, это не риторический вопрос, и возможно, это будет Китай. Будут ли это Соединенные Штаты? Скорее всего, нет. Нам до этого еще далеко. Это не значит, что мы не захотим помочь, но мы очень далеки от всего этого.
Центральноазиатские элиты эволюционировали от тех откровенно криминальных и коррумпированных личностей, которые захватили государства в начале 1990-х годов. По крайней мере, почти во всех странах произошел переход к более национальным и рациональным государственным деятелям. Видите ли вы это так – что вы думаете о смене элит в Центральной Азии?
Я вижу это именно так. Я думаю, что вы довольно хорошо это сказали. Я также должен признать, поскольку мы только что говорили о признании неопределенности, что я не тот, кто глубоко и систематически изучал эти элиты. Я удивлен, что не было сделано больше описательной работы по элитам в Центральной Азии в межнациональном масштабе. Это было бы хорошей темой для чьей-то диссертации.
Я лишь отмечу два момента. Во-первых, во всех этих обществах существует большая власть, которую Сэмюэл П. Хантингтон назвал бы наложением “традиционной” патримониальной власти на институциональную власть президентства.
Президенты стран Центральной Азии, без исключения, обладают большой властью. Это не всегда культ личности, но семьи имеют большое значение. И мы говорим о большой власти. Огульные утверждения о социологических характеристиках элит не очень хорошо применимы к Рустаму Эмомали в Таджикистане. Рустам такой, какой он есть: 34-летний молодой человек, который является мэром Душанбе. Он, очевидно, любит футбол. Его явно готовят к большому креслу. И все как бы принимают как должное, что в итоге он получит большую власть в Таджикистане, а причина того, что он получит большую власть в Таджикистане, заключается в том, что никто не знает, кого они должны поставить во главе страны. Но конкуренция по определению того, кто станет лицом франшизы, более жестока, чем многие могут себе представить. На расстоянии легко изобразить эти режимы как неосултанистские, и мне это никогда не нравилось. Возьмем Туркменистан, который, кажется, просто по умолчанию перешел к султанизму. Избавиться от Туркменбаши, когда он уйдет, в пользу какого-нибудь нехаризматичного технократа-воспитателя? Выберете кого угодно, буквально любой – лучше. Но на деле власть должна быть передана сыну. Признаюсь, мне это показалось странным, но, тем не менее, это решило проблему, которую, я уверен, признал бы и Гоббс.
Возможно, люди на вершине пирамиды играют по другим правилам, чем элита, о которой вы спрашиваете. Они контролируют огромные активы. Контроль за соблюдением прав собственности осуществляют одни семьи, а не другие, и это интересная и заметная тенденция в Центральной Азии.
Думаю, еще одна вещь, которую я скажу об элитах в Центральной Азии, заключается в том, что они все больше становятся частью диаспоры за пределами своих государств. Лучшее, что вы можете сделать – и это не только в Центральной Азии! –это уехать. Существует огромный социологический разрыв между людьми, которые достигают того момента в своей жизни, когда у них появляются жизненные возможности, которые фактически выталкивают их из Казахстана, Узбекистана или Туркменистана и позволяют им присоединиться к бродячей космополитической элите. Это то, что отделяет 2% от 98%. Большинство людей никогда смогут получить визу, которая может превратиться в грин-карту. Есть недовольство внутри общества со стороны 98% людей, которые остались позади и не имеют такой мобильности, и, вероятно, это недовольство пронизывает все элиты. То есть все они – элита, но только некоторые члены семьи обладают реальной транснациональной, космополитической мобильностью, которая (я подозреваю) является одним из самых интересных вопросов в этих обществах. Это все очень интересно для меня. Я не читал хорошей книги об этом и не видел хорошей статьи об этом.
Какова роль российских диаспор на постсоветском пространстве? В последнее время их число увеличилось в связи с новым миграционным феноменом, но они также представляют собой риск. В частности, в Казахстане, несмотря на то что казахи и русские вроде бы живут в мире, в России постоянно раздаются призывы проверить, как обстоят дела у их российских собратьев в Казахстане. Может ли в Казахстане реализоваться сценарий, аналогичный донбасскому?
Честно говоря, я был бы удивлен – по нескольким разным причинам.
Первая заключается в том, что если я что и понял из написания этой книги об Украине, так это то, что проблема Донбасса не возникла в одночасье. Люди иногда забывают, что накануне событий на Майдане партия Донбасса захватила контроль над всем государством. Там прошли выборы, которые не были насильственными и в принципе прошли нормально. Случилось то, что люди в партии Донбасса были просто абсолютно безжалостны в стремлении к власти, и они в течение многих лет методично захватывали украинское государство. А потом они немного перестарались с Евразийским экономическим союзом, и получился Майдан – мы знаем, чем закончилась эта история. Но это не возникло само собой. Я не вижу причин, по которым казахам могли бы угрожать “свои” же русские, а угроза российского влияния – это то, что заставило Майдан начаться в экзистенциальном смысле.
Во-вторых, есть люди, которых я знаю, которые являются серьезными наблюдателями казахской политики, такие как Каресс Шенк. Она говорит, что, когда она разговаривает со своими студентами, она находит целую группу людей, которые имеют достаточную прививку от российского нарратива. И это радует.
В-третьих, еще одна вещь, которую я упомяну, – это работа Дэвида Лайтина 1990-х годов. Он написал книгу Identity in Formation (“Идентичность в становлении”), которая оказала на меня большое впечатление. В его работе по Казахстану подчеркивается, что набор выбора для самоидентифицированных русских в Западном Казахстане не сводится к тому, бороться или нет с властями за отделение с помощью России. Часто выбор состоит в том, уезжать или нет: “Я не хочу ассимилироваться в казахской культуре, потому что я русский и думаю, что быть русским круче, чем казахом, и я не собираюсь становиться казахом в любом случае. У них есть свои казахские штучки – это круто, им нравится Чингисхан. Но я не тот, кому нравится Чингисхан. Я русский, так что я не собираюсь ассимилироваться в этом. Я пытаюсь решить, стоит ли мне купить дом в пригороде Санкт-Петербурга и уехать”.
Именно выбор “уехать, ассимилироваться или остаться и торговаться” является главным вкладом Лайтина. Он говорит: “Смотрите, у вас есть все эти русские. Это диаспора на берегу – границы Советского Союза сокращаются, и у вас есть все эти маленькие лакуны, забавные маленькие русскоязычные, русскоидентифицирующие политические экосистемы. В Казахстане, я думаю, загадка состоит в том, почему так много русских, кто все еще там остались. В той степени, в которой это вообще является загадкой, с большого расстояния (и с уважением признавая, что расстояние велико), это и есть загадка для меня. Я немного удивлен, что демографическая ситуация настолько устойчива, что так много людей не проголосовали ногами и просто уехали. Я предполагаю, что причина, по которой они остались, может быть простой, а именно: путинизм настолько непривлекателен, что никто не хочет жить в России! Они бы предпочли быть гордыми россиянами, которые живут там, где налоги не такие высокие, а их телефоны, возможно, не прослушиваются. Они живут там, где власть не вмешивается в их жизнь так сильно, и при этом они могут гордиться тем, что они русские.
Как насчет Вашей новой книги “Ukraine’s Unnamed War” («Неназванная война в Украине: Перед российским вторжением 2022 года»)? Не могли бы вы рассказать нам, о чем она? Есть ли в этой войне что-то, что вас удивило или, наоборот, подтвердило ваши прежние мысли?
Первое, что нужно сказать, это то, что мы написали эту книгу до вторжения. Мы с моим соавтором, Домиником Арелем, писали ее очень долго, и в самый последний момент нам пришлось внести в нее некоторые изменения из-за вторжения. Но книга, по сути, рассказывает о корнях этой войны.
Вторжение России 24 февраля 2022 года на самом деле не было началом этой войны. Война не возникла из ниоткуда – она появилась в результате внутриукраинских переговоров, которые продолжались в течение долгого времени, и куда Россия часто пыталась вмешаться. Это первое.
Книга рассказывает о войне, утверждая, что геополитический кризис возник, по сути, в результате смены режима на Майдане в 2013-2014 годах. Затем книга рассказывает о том, как люди реагировали на Майдан, и как они по-разному реагировали в Крыму, в районах ДНР и ЛНР (Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика) Восточного Донбасса. Очень важно, что остальная часть Востока и Юга могла бы, но не склонилась к насилию, поэтому сегодня она меньше похожа на ДНР и ЛНР, чем могла бы. Вот, вкратце, о чем наша книга. Мы хотели написать обо всех местах в Украине, где есть много людей, которые на бумаге пишут, что они русские. В этих местах живет еще больше людей, которые говорят дома больше по-русски, чем по-украински (или говорили до 2022 года). Поэтому сам Путин и многие люди, окружающие Путина, рассматривают этих людей как ресурс. Конкретно Путин (который в своей зловещей манере ясно дал понять, что считает этих людей русскими) считает, что они должны захотеть стать частью его проекта.
Но люди сложны, и они не обязательно хотят того, чего хочет от них Путин. У них есть стратегические возможности не принимать участия. Именно это и описано в книге. В ней русскоязычным жителям Украины предоставляется большая свобода действий в принятии решения о том, хотят ли они политически определять себя как русских. Иногда они хотят сделать это театрально, чтобы поторговаться; иногда они действительно хотят присоединиться к России, сформировать ополчение и попросить российской военной помощи. Но часто это может быть решено с помощью институциональных компромиссов, которые не требуют насилия. Загадка заключается в том, почему возникает насилие и почему оно отсутствует.
В итоге книга представляет собой конечный результат военного тупика и создание государства, имеющего разные де-факто границы с Россией. Государство Украина имеет одни и те же границы де-юре, согласно интерпретации международного права большинством людей, но разные границы де-факто. Как только украинцы фактически институционально адаптировались к этой новой демографической реальности, которая только усилилась войной, в итоге получилось государство, которое стало более украинским. Оно стало более украинским культурно, лингвистически, более украинским с точки зрения преподавания истории, возможно, духовно, более украинским во многих других отношениях. И все это было стратегической институциональной адаптацией к выбору, который сделала Россия. Затем Путин (и это странно для нас, но я думаю, что имеет значение только то, что это имеет смысл для него) назвал эти адаптации геноцидом и сказал: “Я должен вторгнуться в Украину, чтобы защитить свой народ”. Именно этот шаг оправдал всю эту войну.
Позвольте мне ответить на вопрос о том, что меня удивило и не удивило в войне.
Меня не удивило, что Зеленский не захотел сдаться в последний момент, даже когда европейцы (немцы) очень сильно настаивали на том, чтобы Украина просто реализовала Минские соглашения, чтобы попытаться решить проблему и обеспечить мир. Потому что к тому моменту он понял, что Минск на самом деле не обеспечит гарантий безопасности для его страны. Меня также ничуть не удивило, как упорно сражались украинцы или, учитывая всю помощь, которую они получили, насколько они были способны на широкие шаги. Они знают, что делать с полученной помощью. И как общество они способны пойти на огромные жертвы ради защиты своего суверенитета. И, честно говоря, я бы солгал, если бы сказал, что что-то из этого меня удивило.
Что меня удивило? Как и большинство военных экспертов, как Майкл Коффман, Дара Массикот, многие другие люди, я был полностью застигнут врасплох отсутствием российских возможностей. Российская военная слабость по-разному проявлялась в первые дни, недели и месяцы войны.
Во-вторых, меня удивили провалы российской разведки, ее неспособность реально оценить собственные возможности и особенно волю Украины к борьбе. Политологи и экономисты написали важные книги о дилемме диктатора, среди них отличная книга Рональда Уинтроуба и другая книга Кейтлин Талмадж из Джорджтауна. Когда у вас персоналистский диктатор во власти, сложно создать правильные стимулы для сбора разведданных, чтобы дать прямые ответы боссу и так далее. Я не могу описать масштабы этого провала разведки. Одно дело, когда Соединенные Штаты думают, что в Ираке нас встретят как освободителей, но Ирак находится довольно далеко, и мы не говорим по-арабски. Я не очень понимаю, как Россия так ошиблась с Украиной. Каждый раз, когда я думаю об этом, это все еще удивляет меня. Но если бы они знали, что их не будут встречать как освободителей, российские военные планировщики могли бы поступить по-другому на начальных этапах войны. Украина не все сделала правильно, и я рад, как друг Украины и как американец, что Россия совершила столько ошибок.
Я был очень приятно удивлен реакцией США, которая, в свою очередь, активизировала реакцию Европы и альянса НАТО. Похоже, что Соединенные Штаты действительно затеяли долгую игру. Война в Украине, как эмпирический факт, просто оставалась в поле зрения общественности гораздо дольше, чем я ожидал. Я получаю новости из газеты Нью-Йорк Таймс, и с начала войны в феврале не было ни одного дня, чтобы она не была на первой странице. Мы приближаемся к годовщине войны, и я думаю, что она будет оставаться на первой полосе каждый день.
Что касается меня лично, то для меня, человека, который посвятил свою взрослую профессиональную жизнь написанию статей о таких местах, как Таджикистан, это необычно. Глубоко неожиданно. Я привык думать о Соединенных Штатах как об очень отвлекаемой империи. Я очень ярко помню протесты на президентских выборах в Иране в 2009 году, когда в Тегеране на улицу вышли люди с табличками на английском языке, пытаясь заставить людей на CNN обратить внимание на то, что происходит в Иране. И что произошло потом? Американцы переключили канал. Майкл Джексон умер. Все переключились на ранчо “Неверленд”. Я помню, как это событие выбило ветер из парусов моей юности. Я посвятил так много своей жизни и так много своей энергии персоязычному населению Центральной Азии. И я продолжал рассказывать истории таджиков, пытаясь сделать это правильно.
Эта война 2022 года была ужасной в некоторых отношениях, но она оказала на меня обратное воздействие, причем удивительным образом. Она дала мне ощущение того, что я являюсь частью той страны, которая иногда понимает все очень правильно и продолжает учиться по верным причинам.
Read in English: War, Post-War, and Peace in Eurasia: An Interview with Jesse Driscoll