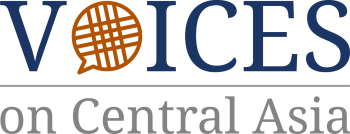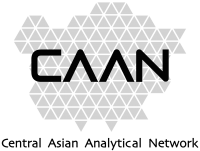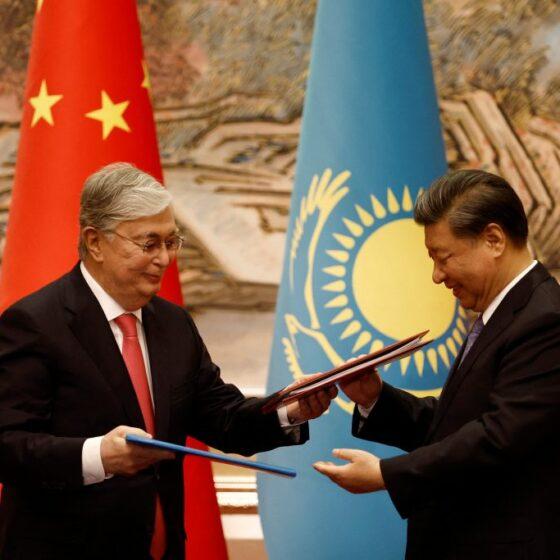В этом эпизоде Руслан Изимов и его гость – Шаирбек Джураев обсуждают особенности демократизации в Кыргызстане. Почему более или менее свободный выбор приводит к тому, что в парламенте оказываются бандиты и коррупционеры? Почему малосодержательный популизм остается популярным среди населения среди народа? Чем руководствуется внешняя политика Садыра Жапарова и о чем говорит озвученная им прямая поддержка Москвы?

Шаирбек Джураев является соучредителем и президентом Crossroads Central Asia. Он также является младшим научным сотрудником Академии ОБСЕ в Бишкеке. Ранее Шаирбек работал заместителем директора Академии ОБСЕ в Бишкеке и деканом по академическому развитию Американского университета в Центральной Азии. Шаирбек имеет докторскую степень в области международных отношений Университета Сент-Эндрюс и степень магистра международных отношений Лондонской школы экономики. Полное био – https://www.crossroads-ca.org/authors/
Полный транскрипт
Осенью 2020 года в результате очередных уличных протестов к власти в Кыргызстане пришел Садыр Жапаров. После избрания на пост президента в январе прошлого года Жапаров начал проводить внутриполитические реформы. Вопреки ожиданиям, он взял курс на усиление авторитаризма, вновь внес изменения в Конституцию страны и провел референдум по переходу к президентской форме правления.
Более того, для Кыргызстана большой проблемой становится тот факт, что в результате сравнительного развития в республике демократических принципов и относительно честных выборов к власти в стране все чаще приходят олигархи, бизнесмены и коррупционеры.
Во внешней политике Кыргызстан при Жапарове так же, как и раньше, пытается проводить мультивекторный курс. Тем не менее зависимость Кыргызстана от России остается высокой, как, впрочем, и у остальных стран Центральной Азии. Но именно Жапаров в первые дни после начала войны России в Украине пытался выразить прямую поддержку позиции Москвы, заявив, что в сложившейся на тот момент ситуации у России не было другого выбора. При этом Запад, похоже, потерял какой-то интерес к демократизации республики, в то время как в Китае ждут большей ясности во внутренней и внешней политике Кыргызстана. А открытый конфликт Кыргызстана с Таджикистаном, может быть, и вовсе заморозил развитие регионального сотрудничества в Центральной Азии.
О чем говорит этот опыт демократии? Почему малосодержательный популизм остается популярным среди населения, среди народа? Чем руководствуется внешняя политика Садыра Жапарова?
Эти вопросы сегодня мы будем обсуждать с Шаирбеком Джураевым.
Шаирбек Джураев
Шаирбек Джураев – директор исследовательского центра Crossroads Central Asia, также являюсь научным сотрудником в Академии ОБСЕ в Бишкеке.
Руслан Изимов
Чуть больше года назад Садыр Жапаров был избран президентом Кыргызстана. Что изменилось за этот период в политике страны? Во внутренней политике Жапарова критикуют за то, что он возвращает страну в авторитарную форму правления, усиливает полномочия президента и ограничивает функции парламента, медиа и так далее. Какие были отличительные действия Жапарова во внутренней политике с момента прихода к власти? Например, кто его социальная поддержка и кто его оппоненты?
Шаирбек Джураев
Да, на самом деле в октябре 2020 г. сменилась власть в Кыргызстане, и в январе 2021 г. Жапаров был избран новым президентом.
Ваш вопрос многоэтажный и сложный. Самый главный вопрос – что изменилось за этот год? Я бы сказал, что в контексте смены власти в Кыргызстане особо больших изменений в политике в стране я не наблюдаю. По крайней мере если судить про изменение процессов в политике в контексте и результате именно смены власти. На самом деле много говорят о том, что с приходом Садыра Жапарова изменилась форма правления. Поменяли Конституцию, с условно смешанной формы правления перешли к президентской форме правления. Но по большому счёту политика Кыргызстана не претерпела больших изменений. Она примерно в таком же уровне авторитарности была и несколько лет назад, и смена власти в этом смысле не играет большой роли. На самом деле в Кыргызстане все большие события, как смена власти, опять-таки не происходят в контексте появление какой-то новой, идеологически разной и различной силы. В основном, небольшая группа людей сменяет друг друга. Смена власти происходит в контексте элементарного политического банкротства предыдущей власти, тех, которые стояли у руля. Но смена власти у нас не приводит к принципиальным большим изменениям.
Руслан Изимов
Да, на самом деле я с вами согласен. Наверное, с одной стороны, слишком мало времени прошло. С другой стороны, возможно, изменение власти, имеется в виду там фамилии другого человека прихода к власти не привело еще к таким большим изменениям, о которых можно детально рассказывать.
Давайте попробуем немного поговорить в целом об изменениях в Кыргызстане, с точки зрения демократических принципов. Кыргызстан считается по праву самой демократической страной Центральной Азии. Объективно нужно это признавать, если по сравнению с другими республиками региона. По крайней мере все политические изменения в стране происходят по воле большинства. Но природа этих изменений не всегда отвечает целям развития страны. Была статья шведского исследователя Йохана Энгваля «Между бандитами-бюрократами» называется. В ней автор приходит к выводу, что, хотя за годы политической конкуренции кыргызский парламент технически хорошо развился, но состав его становился все более примитивным. В результате, группа предпринимателей, включающих олигархов, рэкетиров, владельцев базаров, строительных магнатов и государственных служащих со скрытыми бизнес-интересами, установила жесткий контроль над парламентом в ущерб обеспечению общенационального законодательства, установлению механизма подотчетности избирателей. По вашему мнению, если в целом смотреть, в чем особенности такой демократизации? Почему голос народа выражается в выборе именно таких представителей? То есть, вот если более простым языком говорить, вот этот вот популизм, почему он становится популярен среди населения, среди народа?
Шаирбек Джураев
Мне кажется, корень вопроса в том, почему уровень относительной демократичности системы в Кыргызстане приводит к тому, что парламент, как вы процитировали статью, оказывается в руках бандитов, коррупционеров, бизнесменов, олигархов и так далее? Это большая проблема и большая тема. И тут отчасти этот диссонанс происходит из-за подмены понятий, что Кыргызстан когда-то называли островком демократии в середине и начале 90-х гг. С тех пор относительный уровень открытости системы у нас воспринимается как уровень демократичности. Но нужно признать, что государство или правящий режим в Кыргызстане всегда был более слабым, чем, скажем, в соседних странах. Тем не менее уровень верховенства закона или больших таких демократических правил игры – он особо сильно не отличался от Кыргызстана. Выборы являются одним из немногих сфер, где Кыргызстан отличается на самом деле от других стран региона. В том смысле, что выборы у нас более или менее конкурентные и в некоторых частях на самом деле очень трудно предсказать победителя. Но как мы видим, во-первых, один миф можно развенчать в том смысле, что Кыргызстан, несмотря на большую историю конкурентных и непредсказуемых выборов, ни разу ещё не был свидетелем того, что оппозиция выиграла выборы и пришла к власти через выборы. Такого ещё не было. Каждый случай смены власти в Кыргызстане происходил исключительно через уличные протесты. А те случаи, когда через выборы сменялась власть, это было, когда уходящий лидер просто передавал власть своему избранному преемнику. В частности, это случай Атамбаева-Жээнбекова. Поэтому я бы не стал обрисовывать уровень демократии Кыргызстана как на самом деле очень высокий.
Но почему всё-таки более или менее свободный выбор приводит к тому, что в парламенте оказываются бандиты и коррупционеры? Тут вопрос, естественно, в повальной коррупции в стране и в обществе в целом. Вопрос политической культуры в Кыргызстане, как и в нашем общем регионе, где население, естественно, не является населением, условно, сегодняшней Ирландии, Шотландии или Франции. Демократические процедуры, демократические нормы мы приняли в техническом порядке, но это не означает, что мы как общество действуем по тем правилам и закономерностям, которые происходят в тех странах, которые мы принимаем как демократии. Если не совсем честный коррупционер побеждает в выборах, если он набрал голоса, то это его победа – правильно. Другое дело, каким образом это происходит? Естественно, тут есть элемент подкупа голосов. Но подкуп голосов процесс обоюдный. Никто никому не навязывает. То есть в политической культуре страны это явление является, как мы видим, приемлемым, и общество это принимает. Так что те люди, которые оказываются во власти в результате выборов, являются отражением общей ситуации в Кыргызстане, состоянием общества в Кыргызстане.
Но в предыдущем вопросе вы сказали: «Что всё-таки изменилось в Кыргызстане после прихода к власти Жапарова?». Тут я бы упомянул, что не в результате прихода Жапарова к власти, еще до этого, есть одно большое изменение или процесс изменения в кыргызской политике – это усиление различий между определенными политическими идеологиями. В частности, рост националистического популизма, который сильно связывают с правящей элитой и, так скажем, либеральной группы, которые в основном сосредоточены в столице Кыргызстана – Бишкеке. Сейчас мы видим, что по сравнению с тем, что было 10–15 лет назад, идеологический разрыв усиливается. И политика, если она раньше была уделом небольшого количества людей, которые имели контроль над властью, то сегодня она в каком-то смысле демократизируется. Политика пришла в Ютуб, в Facebook, и те люди, которые раньше практически отсутствовали в политических экскурсах, сегодня являются более активными участниками. Через опять-таки интернет, который не только позволяет мигранту Кыргызстана, условно, в Новосибирске участвовать в политических дискуссиях, но также позволяет политикам доводить свои посылы большему количеству людей, чем раньше это было, когда был только телевизор и пара газет. Так что меняется природа политики, меняется уровень доступа разных активных групп в политику, в политический дискурс. И этот процесс интересный, и в какой-то степени он является одним из объясняющих факторов того, почему неожиданно сменилась власть осенью 2020 года.
Руслан Изимов
Спасибо. Давайте поговорим о внешней политике. Во внешней политике Кыргызстан главным образом полагается на Россию, в первую очередь, в экономическом плане. Кыргызстан получает от Москвы серьезную финансовую помощь, многочисленные трудовые мигранты отправляют денежные переводы и так далее. И как вы в этом контексте оцениваете последствия войны в Украине? Объясняется ли поддержка Жапарова, если она, конечно, есть, России этой сильной экономической зависимостью от Москвы?
Шаирбек Джураев
Ситуация для нас сложная. Во-первых, как и многие другие страны в нашем регионе, Кыргызстан является страной малой, и достаточно уязвимым государством. В такой ситуации Кыргызстан никак не может быть сторонником прямого военного вторжения одной страны в другую страну. Так что, если условно говорить, с кем Кыргызстан больше ассоциирует себя в этой ситуации, естественно, это позиция Украины -государство, которое является объектом вторжения, – а не с Россией, которая является государством, которое вторгается. Это судьба малых государств. Как в басне Крылова: «У сильного всегда бессильный виноват». Кыргызстан чаще всего находит себя в позиции более слабого, более зависимого государства в своих отношениях с внешними партнерами, поэтому однозначно проактивно поддерживать действия России в Украине Кыргызстан не может и не должен себе позволять. Но, с другой стороны, естественно, есть большой уровень зависимости Кыргызстана от России. Это то, что вы указали, наличие около одного миллиона мигрантов, которые регулярно отправляют деньги. Это наличие торговли между Кыргызстаном и Россией. Сейчас есть очень большая импортозависимость у нас от России. И естественно, также есть вопрос политической зависимости. С одной стороны, как я уже сказал, Кыргызстан не может не поддерживать Украину. В то же время Кыргызстан не может не поддерживать Россию. Как вы знаете, Кыргызстан является членом ОДКБ, ЕАЭС. То есть после Белоруссии мы являемся практически следующим уровнем союзников России, и этим объясняется более или менее такая нейтрально-позитивная риторика Кыргызстана в отношении ситуации. И президент Жапаров, и министр иностранных дел после первых дней событий уже немного меняют риторику. В последнее время активно делают ударение на том, что Кыргызстан является нейтральной стороной, и мы являемся сторонниками того, чтобы Россия и Украина через переговоры нашли решение проблемы. Такое заявление сделал министр в Москве на встрече с Лавровым и недавно в Турции на встрече с турецкими коллегами. То есть Кыргызстан не является государством, которое оказывает абсолютную поддержку действиям России, и поэтому нельзя говорить о том, что зависимость экономическая, и из-за мигрантов, и их переводов, сыграла роль в определении позиции Кыргызстан.
Но то, что почти все наши мигранты являются резидентами одного государства, всегда было рискованно. Раньше это был риск экономический и политический. От политической кампанейщины, когда в России перед выборами вдруг нагнетаются страсти по мигрантам, это всегда било по нашим мигрантам. Сейчас получается геополитическая: мировая экономическая ситуация тоже приводит к тому, что они опять-таки оказываются самыми уязвимыми группами.
К слову, я был удивлён тем, что страны Центральной Азии очень мало говорили друг с другом, прежде чем комментировать ситуацию в России и Украине. Только буквально на днях был первый кейс, когда министры иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана в Анталии сделали совместное заявление о том, что мы являемся сторонники мирного урегулирования вопроса. Я бы ожидал такие действия на более раннем этапе для того, чтобы как-то сверить позиции и более скоординированно реагировать. Интересно, что такого не произошло.
Руслан Изимов
А на каком этапе находятся сегодня отношения Кыргызстана с Западом? Какое отношение, например, с Западной стороны существует к политике Жапарова? Думаете ли вы, что Запад уже устал от демократизации Кыргызской Республики? Хочет ли Бишкек завоевать былое доверие?
Шаирбек Джураев
Отношения Кыргызстана с Западом — это практически отношения ни о чем. Это не новшество или явление, которое появилось после прихода к власти Жапарова. У нас уже последнее 10–15 лет между Кыргызстаном и Западом нет активной повестки дня, нет особого притяжения или неприязни. Можно описать эти отношения, как безразличные, где по инерции все-таки происходят небольшие события, какие-то грантовые программы работают в поддержку и правительства, и неправительственного сектора, в поддержку каких-то технических реформ. Но какого-то живого политического интереса нет у Кыргызстана в отношении Западных государств. И это отношение взаимное. На Западе, мне кажется, тоже давно уже нет какого-то живого интереса работать с Кыргызстаном. Поэтому я бы не стал строить какие-то ожидания.
Устал ли Запад от демократизации в Кыргызстане? Мне кажется, на Западе особых надежд по демократизации Кыргызстана не было. Но то, что недавно произошло, усиление института президента, хотя это не является по определению сдвигом в сторону авторитаризма, но мы знаем, что сильный президент всегда более склонен к авторитаризму, чем, скажем, смешанная форма правления. Но тем не менее, это изменение конституционного формата, мне кажется, больше повлияло на Запад на уровне доноров, каких-то различных грантовых программ. Те, которые за последние 5–10 лет поддерживали институт парламента, развивали грантовые программы под таким дискурсом развития парламентской демократии в Кыргызстане. Для них оказалось большим разочарованием то, что 80% населения Кыргызстана страны поддержали изменение Конституции и переход к президентской форме правления. Для них это было разочарованием. Но я бы не стал это обобщать и демонстрировать как разочарование Запада теми событиями, которые происходят в Кыргызстане. Мне кажется, для Запада Кыргызстан, где-то далеко.
Мне кажется, что из-за влияния 90-х годов у нас всё ещё есть ощущение, что Запад хотел демократизации в нашем регионе, Запад поддерживал и поддерживает это и так далее. Ну, естественно, был на Западе период эйфории, что либеральная демократия победила и в «холодной войне», и в 90-е годы. Такая волна, что даже международные отношения Запада строились на принципе экспорта либеральной демократии, ценностей и так далее. Но все временно. Сегодня, если посмотреть на риторику даже европейских или американских лидеров за последние 10 лет, то сложно увидеть тот упор на демократизацию, которую мы могли слышать во времена Билла Клинтона или позднее в период Джорджа Буша младшего. Это совершенно разные времена. И мне кажется, уже пора нам от этого тоже отходить и воспринимать Запад, как и Россию, и Китай. Это набор акторов, набор международных игроков, у которых есть свои интересы, свои ценности. Они, естественно, – демократические государства, больше говорят про необходимость демократизации. Но они уже, мне кажется, давно не видят своей миссией развитие демократии, скажем, в Центральной Азии.
Руслан Изимов
А как вы оцениваете отношения Кыргызстана с Китаем? Во время предвыборной кампании Жапарова появлялись разного рода слухи о том, что он получал финансовую поддержку от Китая. По итогам визита Жапарова в Китае в начале февраля текущего года были достигнуты значимые договорённости. Сообщалось о том, что стороны подписали соглашение в сфере транспорта, сельского хозяйства и так далее. Как вы думаете, усиливается ли влияние Пекина на внутриполитические процессы в Кыргызстане?
Шаирбек Джураев
Нет, так не кажется. Я помню, что да, были разговоры про какой-то канал поддержки Китая нынешней власти в Кыргызстане. Ну такие разговоры -они всегда велись и ведутся. Я не стану комментировать, просто не знаю, и комментировать слухи я не могу.
Итоги визита в Жапарова в Пекин, я бы не сказал, что там были достигнуты какие-то большие успехи и договоренности. Список соглашений, которые я читал, ни о чем. Естественно, главный вопрос в кыргызско-китайской повестке — это вопрос строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Наше общее понимание такое, что наша власть сегодня более открыта к тому, чтобы продвигать данный вопрос, чтобы побыстрее достичь определенного прогресса. Потому что этот проект уже больше 20 лет висит в воздухе. Но судя по тому, что сказали китайские и кыргызские СМИ по итогам визита, там больших решений не было. Было решение, что будут стороны продолжать, технические команды дальше разрабатывать. Поэтому мне не кажется, что визит Жапарова был особо значимым.
По большему счету отношения Кыргызстана и Китая за последние 5–6 лет, мне кажется, зашли в состояние паузы. Был период с 2010 годов, где-то 7–8 лет Кыргызстан стал активным получателем китайской финансовой помощи. По крайней мере в годы президентства Атамбаева. Но после того, как он ушёл из власти, оказался за решёткой, в частности, за коррупционные дела, связанные с большими китайскими кредитами, с тех пор в повестке дня Кыргызстана с Китаем ничего нет. Кыргызстан всегда ищет возможности получить какие-то небольшие суммы денег, гранты, кредиты. Это как бы разговор ни о чем. Я думаю, что Китай сегодня ожидает большей ясности в Кыргызстане, когда наступит более или менее стабильная ситуация, когда будет власть, с которой можно вести более долгосрочные разговоры, долгосрочное планирование. Поэтому, мне кажется, Китай ждет. Кыргызстан пытается активизировать, но, естественно, наши отношения зависят больше от того, что решит Китай, нежели что решит Кыргызстан. Но в долгосрочном плане Кыргызстан как часть Центральной Азии является ближайшим соседом Китая, и отношения с Китаем у нас, хотим мы того или нет, будут развиваться по нарастающей. Запад как геополитический игрок ушел из региона с уходом из Афганистана. И будущие отношения в треугольнике, условно, Россия-Китай-Центральная Азия – будут происходить интересные события. Некоторые комментаторы говорят про будущую конкуренцию между Россией и Китаем за Центральную Азию. Или же, наоборот, как они будут сотрудничать в отсутствие, так скажем, западного противника – что теперь еще более решенный вопрос. Тут будет смесь сотрудничества и конкуренции. Но от нарастания экономического и политического диалога и отношений с Китаем нам центральноазиатским государствам никуда не деться.
Руслан Изимов
Давайте немного поговорим о перспективах региональной кооперации в Центральной Азии. Как мне кажется, в одном из своих интервью вы говорили, что Центральноазиатский союз и в целом центральноазиатская интеграция была разрушена после вступления в нее России и создания Евразийского экономического союза. Сегодня Россия сама закрывается. Может, временно, может, это будет долгосрочно, но, тем не менее, факт, что вводится запрет на экспорт целого ряда продуктов, в первую очередь, в страны Евразийского экономического союза. То есть для нас в Центральной Азии, в первую очередь, в Казахстан и Кыргызстан. На этом фоне появились разного рода разговоры о том, что это может быть началом конца Евразийского союза. Не думаете ли вы, что эта ситуация создаёт некий идеальный шторм для усиления региональной кооперации в Центральной Азии, в первую очередь, в экономической сфере?
Шаирбек Джураев
Пока рановато нам говорить о том, какая будет политика России в экономическом плане. Я бы не стал утверждать, что Россия стала закрываться и решила уходить в себя, особенно в контексте Евразийского экономического союза. Те запреты на торговлю, которые мы буквально на днях услышали, это больше, мне кажется, из-за того, что в России сейчас ситуация неопределенности в вопросах финансов и торговли. Поэтому у них есть такая, мне кажется, политика перестраховаться для того, чтобы минимизировать самые негативные последствия для населения России. И почему они говорят про ЕАЭС, потому что у нас торговля более свободная, и тут у нас без наложения определенного запрета не обойтись.
Если вопрос более широко сформулировать, какие перспективы региональной интеграции в Центральной Азии, то это вопрос старый. Я бы в принципе не стал в контексте Центральной Азии использовать слово интеграция. Для этого нам долго идти. Но каковы перспективы усиления сотрудничества на региональном уровне – вопрос более актуальный. У меня особых ожиданий нет. Если посмотреть на 90-е или 2000-е годы дискурс регионального сотрудничества всегда зависел от наличия такого сильного поборника. Многие годы таким поборником выступал президент Казахстана Назарбаев. Но всегда что-то мешало, кто-то или что-то мешало. Бывший президент Узбекистана был явным противником всяких интеграционных идей, особенно после середины 90-х годов и дальше. Сегодня можно отметить, что с приходом нового президента Узбекистана появился новый поборник такого регионального подхода. Но новый президент Казахстана меня пока не впечатляет как сторона, которая продолжает дело Назарбаева именно в этом аспекте. Президент Узбекистана уже отработал первый срок, и мне кажется, самые большие изменения, которые его приход мог внести, они произошли. В результате особо многого мы не достигли. У него была больше такая политика улучшения двусторонних отношений Узбекистана со всеми странами, включая центральноазиатских соседей. Но на региональном уровне кроме идеи регулярных консультативных встреч, которые уже стали нерегулярными, больше я особо даже вспомнить ничего не могу.
Если посмотреть на кыргызско-таджикские отношения, то за последние несколько лет они практически превратились в отношения враждебных государств. В Центральной Азии у нас не принято так открыто говорить, и у нас всегда риторика одна, а реальная ситуация на самом деле другая. Если вспомните, сегодня никого не удивить новостями о том, что произошла перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана. 10–15 лет назад такие новости отсутствовали. И трудно было даже представить такую ситуацию. Все-таки это соседние государства, братские народы в разных интерпретациях, государства дружественные. Сейчас та риторика остается, но на самом деле новости из приграничных сел и районов, как новости с фронта. Каждый день ожидаешь новую перестрелку, новые атаки, новые жертвы, эвакуация жителей из одного села в другое и так далее. В такой ситуации говорить о том, что Центральный Азия созревает для более глубокой интеграции, для более глубокого оформления отношений на региональном уровне, я бы не стал. Я не вижу основания. Естественно, Россия, как бы ни закончилась история ее вторжения в Украину, останется постоянным членом любой региональной дискуссии в Центральной Азии. Даже если, скажем так, Россия, которая может ослабеть экономически, стать изгоем на глобальном уровне, она тем не менее или особенно из-за этого будет ещё более активным участником международных процессов в Центральной Азии. Я не ожидаю того, что мы вернемся к ситуации крайних 90-х гг., когда Россия была занята своей внешней политикой, со своими отношениями с Европой, и Центральная Азия как бы оказалась практически сама собой. Мне кажется, той ситуации не будет. Поэтому Россия остается большим игроком, и наличие России всегда будет фактором, тормозящим региональный формат наших отношений. Но загадывать на будущее, конечно, я в любом случае не стану. Очень много факторов, которые могут фундаментально повлиять на ситуацию, включая прежде всего внутриполитические события в наших странах. Это любой кейс смены власти у нас в регионе. Есть страны, где можно предугадать, что будет. Есть также страны, где предугадать очень сложно.
Руслан Изимов
Спасибо большое за беседу.
С нами был директор исследовательского центра Crossroads Central Asia и научный сотрудник в Академии ОБСЕ в Бишкеке Шаирбек Джураев.
Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах – Эпл, Гуглл Подкасты, Cпотифай, Амазон, Яндекс Музыка и другие. На сайте КААН caa-network.org мы также размещаем текстовый транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров.
Спасибо за внимание!