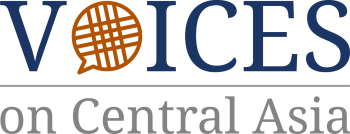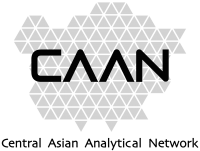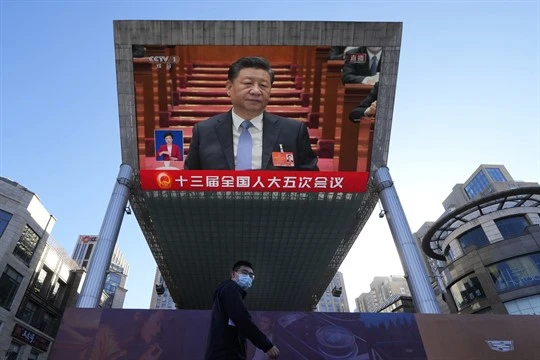Один из крупнейших синьцзянских специалистов по Центральной Азии, профессор Северо-Западного Центра исследований национальных меньшинств Синьцзянского университета Пан Чжипин анализирует ситуацию с безопасностью в регионе. Эксперт рассматривает ситуацию в Центральной Азии с точки зрения пяти наиболее важных факторов, которые оказывают влияние на безопасность в регионе. В совместной статье с другим экспертом Дань Ян (但杨、潘志平:中亚安全形势分析及其影响》) Пан Чжипин дает подробную оценку таким факторам, как внутриполитическая ситуация в Кыргызстане, процессы радикализации в Узбекистане и Кыргызстане, возрождение пантюркистских идей и их влияние на безопасность Синьцзяна, вопросы демаркации границ и проблема анклавов, а также активизация политики США в регионе.
Вторая статья, выдержки из которой включены в этот обзор, рассказывает о китайском восприятии террористических угроз, исходящих из Центральной Азии.
По мнению китайских экспертов, последние три десятилетия ситуация с безопасностью в Центральной Азии оставалась в целом стабильной, особенно если сравнивать с Ближним Востоком. После получения независимости республики запустили процесс национального и государственного строительства. Этот процесс сопровождался с определенными проблемами, в том числе возникли противоречия между историей и реальностью. И на данный момент на повестке дня стоят в основном нетрадиционные вызовы безопасности.
Прежде всего авторы отмечают, что стабильности в регионе угрожает внутриполитическая ситуация в Кыргызстане. Как пишут авторы, внутриполитическая ситуация в республике, которая с 2010 оставалась в целом стабильной, резко изменилась после того как летом 2019 г. по приказу Жээнбекова был арестован экс-президент Кыргызстана А.Атамбаев. Августовские события 2019 г., по мнению китайских экспертов, стоит рассматривать с точки зрения двух факторов. С одной стороны, Кыргызстан остается хрупким национальным государством. По мнению экспертов, Кыргызстан никогда в истории не создавал своего собственного «национального государства». После обретения Кыргызстаном независимости задача создания механизмов национального строительства и идеологии столкнулась с серьезными проблемами. С другой стороны, в Кыргызстане наиболее ярко проявляется проблема регионального разделения. Раскол между «севером» и «югом» все еще остается актуальной проблемой современного Кыргызстана, которая оказывает существенное влияние на общую региональную безопасность.
Вызовом безопасности Центральной Азии, по мнению китайских специалистов, является возрождение пантюркистских идей.
Вызовом безопасности Центральной Азии, по мнению китайских специалистов, является возрождение пантюркистских идей. На рубеже XIX и XX веков идея «пантюркизма» поддерживалась Османской империей. Хотя эта идеология с распадом империи постепенно пришла в упадок, она все еще имела определенное влияние в Азии и Европе. После распада Советского Союза по инициативе Турции каждые 2-3 года проводились саммиты тюркоязычных государств с участием шести стран. Более того, президент Турции Эрдоган однажды выдвинул лозунг «шесть стран, одна нация».
Позднее в 2009 году «Саммит тюркоязычных стран» был преобразован в «Совет сотрудничества тюркоязычных государств» (ССТГ), в который вошли четыре государства: Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. В 2018 г. к ССТГ присоединился Узбекистан.
В последние годы благодаря активному призыву Турции участники ССТГ начали составление учебника «Общетюркской истории» (突厥通史). План о написании учебника был принят на встрече министров образования тюркоязычных государств в Астане в 2015 году, а окончательный вариант учебника составлен экспертами из Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Казахстана в 2017 году. На данный момент учебник уже принят в школьную программу по истории для средних классов в четырех странах ССТГ. Этот учебник охватывает историю тюркоязычных стран с древнейших времен до XV века. Кроме этого, в будущем планируется запустить аналогичные проекты по таким направлениям как «Общетюркская география» (突厥地理) и «Общетюркская литература» (突厥文学).
Китайские эксперты также обращают внимание на то, что 19 июня 2018 года Назарбаев подписал указ о переименовании Южно-Казахстанской области в Туркестанскую. Подчеркивается, что историческое значение смены названия состоит в том, что «священный город» Туркестан по праву считается «духовной столицей тюркского мира».
Кроме этого, в первые дни независимости Казахстана Назарбаев предложил идею «Тюркского союза» и всегда рассматривал ее в качестве инструмента исторического и культурного возрождения. В 2017 году на конференции тюркоязычных стран в Анкаре Назарбаев повторил слова первого президента Турции Кемаля Ататюрка: «Пришло время объединиться всем тюркоязычным народам. Если мы объединимся, то сможем стать очень эффективной силой в мире». В статье «Центральноазиатские исследования» от 22 июля 2018 г. утверждалось, что Казахстан может постепенно избавиться от влияния России и установить более тесные связи с Турцией. Исходя из этого, китайские специалисты делают вывод о том, что возрождение «пантюркизма» в Казахстане – долгосрочный и серьезный вызов, в том числе евразийской интеграции под руководством России.
Как отмечают китайские эксперты, так называемая «тюркская культура» на самом деле является закрытой, замкнутой и узкой «пантюркистской» шумихой. Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана Махмудов заявил, что «молодежь Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии должны читать Шах Исмаила, Эмира Тимура и историю Султана Сулеймана. Это наши тюркские Наполеон, Бисмарк и Вашингтон. Мы должны любить тюркскую историю и величайших тюркских людей». Такие призывы и действия тюркоязычных стран, по мнению Пан Чжипина, означают, что Китай на данном этапе сталкивается с международной проблемой тюркских учебников(突厥教科书).Написание и издание общетюркской историиможно характеризовать как важнейший шаг в истории пантюркистской истории. Таким образом, снова появляется важный сигнал для возрождения «пантюркизма» в Центральной и Западной Азии. Этот шаг, по мнению Пан Чжипина, станет новым и серьезным вызовом для социальной стабильности и долгосрочной безопасности в Синьцзяне, который нельзя игнорировать.
Третий фактор, который, по мнению китайских экспертов, представляет угрозу безопасности Центральной Азии – процессы радикализации. Авторы рассматривают ситуацию в Узбекистане и Кыргызстане. На рубеже ХХ и ХХI веков в регионе усиленно развился религиозный экстремизм. В частности, проблема религиозного экстремизма серьезнее всего проявлялась в Кыргызстане и Узбекистане.
Согласно недавним опросам, в Кыргызстане в настоящее время наблюдается тенденция роста экстремизма, которая характеризуется деятельностью Исламской партии возрождения (ИДУ) на юге и проповедниками «дават» (达瓦宣教) на севере республики. Исламская партия возрождения снова стала активной и имеет много общих интересов с «даватчиками» (движением «Таблиги Джамаат»).
По мнению китайских специалистов, Узбекистан добился определенных результатов в плане дерадикализации.
В то же время, по мнению китайских специалистов, Узбекистан добился определенных результатов в плане дерадикализации. Во времена Каримова Узбекистан активно проводил политику религиозной дерадикализации. Традиционное земледельческое общество Узбекистана сформировало общественную организацию – «махаллю», имеющую ярко выраженный исламский оттенок.
Правительство Узбекистана преобразовало махаллю в низовой институт социального управления, имеющий политическое значение, который взял на себя многие функции правительства на низовом уровне. Более того правительство расширило юрисдикцию махалли и включило мечеть в ее организационную систему управления. После более чем 20-летней трансформации махалля стала важным функциональным институтом для правительства Узбекистана по противодействию экстремизму.
В настоящее время по мере углубления процесса строительства и развития в стране махалля сталкивается с двумя проблемами: Во-первых, согласно официальной пропаганде Узбекистана, махалля является общественной автономной организацией. Но на самом деле это не так. Махалля – это полуофициальная организация, полностью контролируемая государством. Если ее деятельность выйдет из-под контроля, то будет представлять серьезную опасность. «Исходя из этого, важно срочно решить вопрос об эффективном управлении махаллей» –считают китайские эксперты.
Во-вторых, организация имеет ярко выраженный исламский оттенок, а мечеть занимает чрезвычайно важное положение в исламском обществе. Можно сказать, что распространение и развитие ислама в основном опирается на мечеть. Если исходить из мнения, что политические и военные потрясения в исламском мире, так или иначе, связаны с изменениями в функциях мечети, то реформа правительства Узбекистана и использование института махалля для управления мечетями на самом деле представляет определенный риск. Есть вероятность того, что это приведет к противостоянию между обществом и правительством. В связи с этим, как пишут китайские эксперты, странам Центральной Азии, в том числе Узбекистану, предстоит еще пройти долгий путь дерадикализации.
Четвертый фактор, оказывающий влияние на безопасность в регионе, по мнению авторов, это пограничный вопросы и проблема анклавов. Авторы отметают, что после распада Советского Союза в Центральной Азии остался комплекс проблем, связанных с границами между государствами и этническими группами. При этом выделяются две группы проблем:
Первая, казахстанско-российская граница. Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, граничащая с Россией, а протяженность границы между двумя странами составляет 7 548 км. В советский период на долю казахов приходилось менее 40% населения КазССР. После обретения Казахстаном независимости численность казахов выросла и стала преобладать, но в северных областях страны по-прежнему проживает большое количество этнических русских. В настоящее время доля казахов в общей численности населения в Казахстане увеличилась до двух третей населения, но доля носителей русского языка на границе с Россией все еще близка к 50%.
В 1990-е годы в северном Казахстане привычным явлением были эмиграционные настроения среди этнических русских. Кроме того, некоторые русские националисты создавали военизированные организации казаков. Эти организации не только имели тесные связи с казачьими организациями России, но и требовали «автономию» или даже присоединения северного Казахстана к России. Хотя Россия прямо не выражала свою поддержку таким организациям, этнический вопрос на границе между двумя странами всегда представлял скрытую опасность. В 1997 году Бжезинский предупреждал, что «если отношения между Казахстаном и Россией серьезно ухудшатся, Казахстан столкнется с опасностью территориального разделения».
В марте 2014 года, когда на Украине произошел «Крымский инцидент», руководство Казахстана проявило особую бдительность. В том числе ускоренно решались вопросы демаркации и делимитация казахстанско-российской границы. В феврале 2015 г. стороны объявили о том, что работы по делимитации границы между двумя странами были завершены.
Вторая – это проблема анклавов в Ферганской долине. В Ферганском бассейне границы и территории Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана переплетаются между собой. Среди них китайские эксперты выделяют три крупнейших анклава.
– Сох и Чонгара. В настоящее время в этих двух анклавах проживает 75 000 человек, 99% из которых – таджики. Очевидная проблема здесь в том, что таджики были основными жителями этого района с древних времен, но этот анклав был отнесен к Узбекистану, что полностью не соответствует базовым принципам национального разграничения.
– Шахимардан и Джангайл. Здесь проживает около 5100 жителей, 91% составляют узбеки и 9% кыргызы.
– Ворух. Это «анклав» Таджикистана, включенный в Баткенскую область Кыргызстана. Население анклава насчитывает 50 000 жителей, 99% населения – таджики.
Наконец, пятым фактором безопасности в Центральной Азии, по мнению авторов, является политика США в регионе. За последние 20 лет восприятие Соединенными Штатами геополитических отношений между Китаем и Центральной Азией сменилось от беспокойства к тревоге. После прихода к власти Трампа восточная стратегия США претерпела трансформацию от «перебалансировки АТР» к «стратегии Индо-Тихоокеанского региона». США крайне негативно отреагировали на китайскую инициативу «Пояс и путь».
Авторы отмечают, что с принятием в начале 2020 года новой Стратегии США в Центральной Азии на 2019-2025 годы Вашингтон активизировался в регионе. Основные усилия США, согласно новой стратегии, будут направлены на противодействие и сдерживание Китая и России в ЦА. Резюмируя, китайские аналитики отмечают, что очевидно, США активизировались в Центральной Азии с целью создания хаоса в Синьцзяне. С провозглашением новой стратегии США по Центральной Азии появятся новые факторы и изменения в безопасности и социально-экономическом развитии Центральной Азии, которые потребуют серьезного рассмотрения и принятия ответных мер.
Несмотря на отсутствие сообщений о террористических актах в Центральной Азии, угроза терроризма и экстремизма в регионе сохраняется
В другой статье (中亚五国面临的恐怖威胁和态势评估) эксперт Института изучения Центральной Азии Ланьчжоуского университета отмечает, что в 2020 г. несмотря на отсутствие сообщений о террористических актах в Центральной Азии, угроза терроризма и экстремизма в регионе сохраняется. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что на ситуацию с безопасностью продолжают оказывать влияние граждане стран Центральной Азии, которые участвовали в конфликтах в Афганистане и Сирии.
Автор отмечает, что хотя пандемия заблокировала глобальные потоки, террористическая деятельность в Центральной Азии продолжается. Только для этого экстремисты стали использовать другие каналы и методы.
В ответ на сложившуюся ситуацию центральноазиатские государственные органы принимают меры. Во-первых, все чаще принимаются мягкие меры в ответ на терроризм. Правительства используют институты гражданского общества как канал для усиления сопротивления своего народа экстремизму.
Во-вторых, страны Центральной Азии все активнее стремятся к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. На заседаниях ШОС и ОДКБ вопросы противодействия терроризму – всегда на повестке дня. Кроме этого, Узбекистан планирует провести крупномасштабную международную конференцию в 2021 году для обсуждения региональных совместных действий по борьбе с терроризмом. Эти планы отражают стремление стран Центральной Азии продолжить работу по борьбе с насильственным экстремизмом. Однако, как отмечает эксперт, разные взгляды стран Запада на положение с правами человека в некоторых странах Центральной Азии могут осложнить потенциальное сотрудничество между последними и ЕС.
Между тем, как отмечает автор, центральноазиатские «джихадисты» по-прежнему играют важную роль в международных террористических силах. Хотя крупнейшие центральноазиатские боевики все еще сражаются на полях сражений в Сирии и Афганистане, недавние террористические инциденты, которые были предотвращены в Европе, показывают, что ландшафт угроз быстро развивается и расширяется. Из-за отсутствия оперативной информации и данных о террористических организациях в сочетании с воздействием пандемии, экономика стран Центральной Азии сталкивается с серьезными проблемами, которые могут усугубить существующие угрозы терроризма и экстремизма.
Резюмируя, китайский эксперт пишет, что в краткосрочной перспективе граждане стран Центральной Азии, вероятно, останутся важной частью глобальных джихадистских элементов. Поэтому по-прежнему очень важно побуждать страны Центральной Азии к усилению внутренних мер реагирования и развития сотрудничества в области безопасности в регионе.