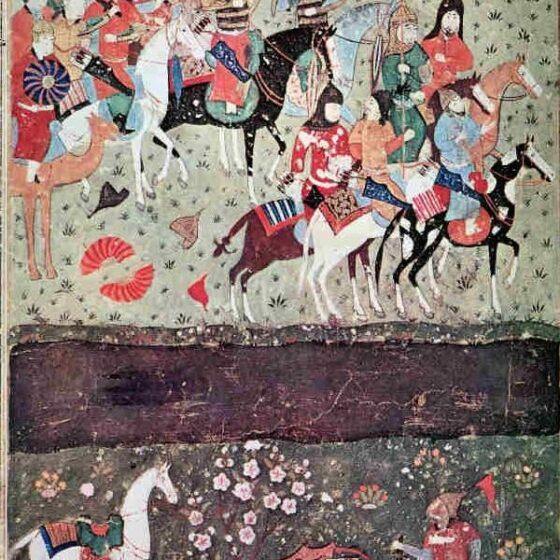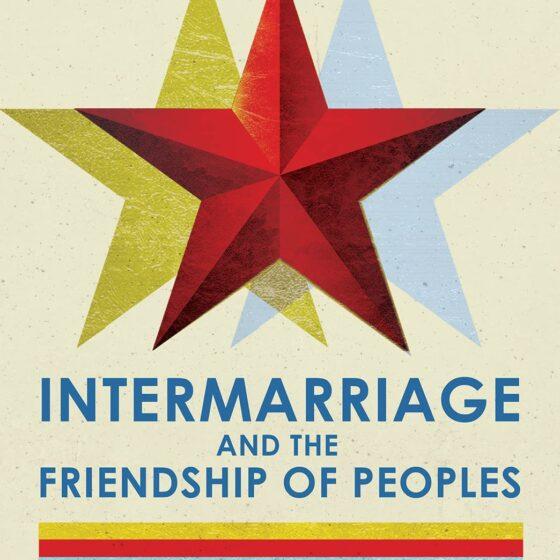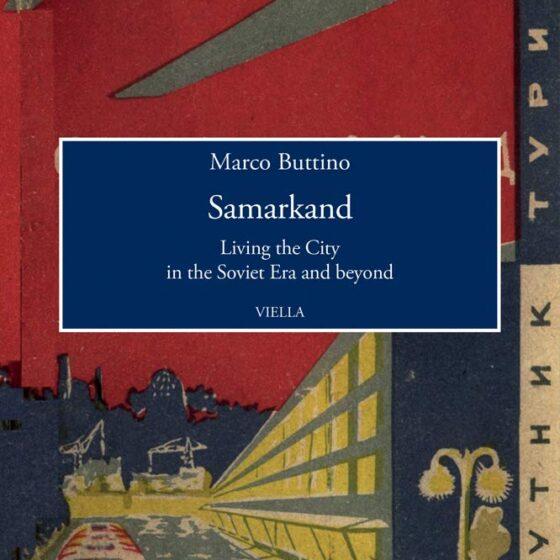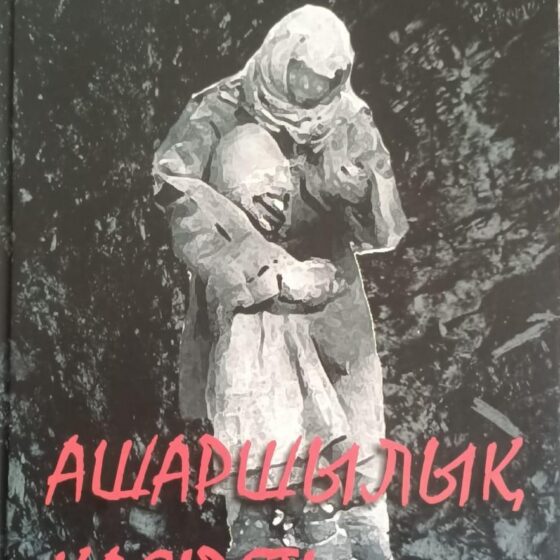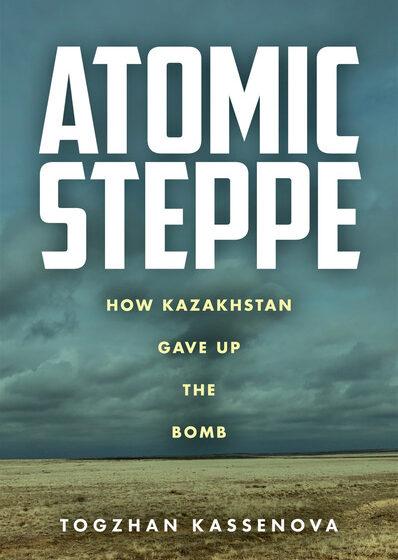Полимат – универсальный человек, энциклопедист, (от πολυ – «много» и μαθής – «занятия»), человек эпохи Возрождения, тот, чьи интеллектуальные способности, интересы и деятельность не ограничены одной областью знаний и единственной областью их применения, а также индивид, добивающийся ощутимых практических результатов по всем направлениям.
Джеймс Пикетт (профессор истории в университете Питтсбурга) в своей книге показывает, что исламские ученые были одновременно мистиками и администраторами, судьями и оккультистами, врачами и поэтами. Это комплексное понимание мира исламской науки открывает другой способ мышления о межрегиональных сетях обмена. Пикетт раскрывает особенности персоязычной культурной сферы, которая вышла за пределы государственных границ и смогла охватить такой впечатляюще яркий регион, как Евразия. Через высокий культурный комплекс, который он называет «персидским космополисом» или «персидской сферой», Пикетт утверждает, что пересечение различных дисциплин сформировало географические траектории между политическими государствами. В «Полиматах ислама» он рисует всеобъемлющий, красочный и часто противоречивый портрет мечети и государства в эпоху империи.
Введение книги. Перевод с англ. в сокращении.
Вкратце, эта книга посвящена исламским ученым Бухары, жившим в течение “длинного девятнадцатого века”. Но, как и в зеркале заднего вида, каждый элемент в этом предложении может быть более объемным, чем кажется.
Определение «исламский» связано с канонами и мечетью, но в этой книге исповедовавшие ислам занимались и поэзией, и оккультными науками, и медициной. Слово “ученые” создает образ скучных профессоров, работающих только в университете, но английский перевод едва ли отражает арабский термин “улама”. Улемы преподавали в медресе, но они также выполняли административные функции государства, руководили мистическими орденами и управляли торговыми связями. Бухара в узком значении – это город-музей, который сейчас находится в Узбекистане, но в этой книге обозначает центр гораздо более обширной сети социально-культурных изменений. Наконец, “длинный девятнадцатый век” – это европейский исторический термин, относящийся к периоду от Французской революции 1789 года до начала Первой мировой войны в 1914 году. Но здесь я имею в виду еще более длительный девятнадцатый век – от краха империи Надир-шаха Афшара до большевистской революции в 1917 году. Этот период охватывает зенит персидского высокого культурного мира, как и его закат.
Улемы преподавали в медресе, но они также выполняли административные функции государства, руководили мистическими орденами и управляли торговыми связями.
Исламские ученые были одними из самых влиятельных людей в своем обществе, и эта сила опиралась на их владение различными формами знания, а не на праве рождения. Вместо того, чтобы представлять эти разнообразные компетенции и практики в соответственно разных профессиях, эта книга концептуализирует их как отдельные практики и дисциплины, но в единой среде. Вместо того, чтобы воображать стратифицированные касты улемов в противопоставлении суфиям и поэтам, мы имеем единую социальную группу разносторонне развитых эрудитов, которые выборочно исполняют шариат, исповедуют аскетизм или увлекаются поэзией в зависимости от обстоятельств. Эти полиматы ислама были хранителями единственной формы институционализированной высокой культуры, которая существовала в Центральной Азии. Их авторитетное владение многими различными формами знаний – от медицины до права, эпистолографией и не только – давало им значительную власть и позволило зародить прочные семейные династии. Тюркская военная элита полагалась на этих ученых в управлении государством, но улемы обладали независимым источником власти, основанном на знаниях, что создавало напряженность между этими двумя элитными группами и имело серьезные последствия для истории региона.
Большинство исламоведов, упомянутых в этой книге, были связаны с культурными институтами города-государства (позднее под российским протекторатом) Бухары. Бухара служила их образовательной базой, и те же люди мифологизировали город как вневременной культурно-религиозный полюс, эпицентр тюрко-персидско-исламской высокой культуры. В этой диалектике улемы формировали и формировались Бухарой как идея и как институт. Особые интеллектуальные способности, обеспечиваемые обширной образовательной системой города, позволили Бухаре служить центром межрегиональной образовательной сети, простирающейся далеко за пределы ее политических границ. Чем больше специфический набор форм знаний, культивируемых в Бухаре, находил отклик в прилегающих регионах, тем больше студентов из этих регионов стекалось в медресе Бухары. Центральное место Бухары было результатом непрерывного проекта мифологизации, который набрал обороты в ранний современный период, продолжился в эпоху российской имперской экспансии и опирался на столетия культурного производства, как физического, так и текстового.
Полиматы ислама были хранителями единственной формы институционализированной высокой культуры, которая существовала в Центральной Азии
Действительно, относительно недавнее возрождение Бухары – датируемое шестнадцатым веком и достигшее апогея в девятнадцатом – было свидетельством творческой силы улемов и их покровителей.
В последующем моя книга вращается вокруг этих пересекающихся тем: знания, культура и религия, и законов, с помощью которых исламские ученые объединили все три сферы в свои руки. Представьте на мгновение, что Dы родились в Центральной Азии в течение длинного девятнадцатого века и вам посчастливилось попасть в одно из престижных медресе Бухары. Вы потратите как минимум десять лет на изучение очень сложных, часто потусторонних дисциплин, написанных на фактически иностранном языке. Что можно сделать с таким набором навыков? Что будет, если одна из ваших социальных ролей вступит в конфликт с другой – неизбежный побочный эффект такой драматической эклектики? Каким образом заучивание арабской грамматики или чтение астрологических знаков поддерживало семейные династии, переживших правление монархов? На эти вопросы нет простых ответов, но это именно то, что удалось улемам. На следующих страницах мусульманские эрудиты будут поднимать города на мифологические высоты и бросать вызов господству самых грозных правителей.
Расположение Центральной Азии и Бухары
Как и в большинстве региональных исследований, «Центральная Азия» является искусственным конструктом и используется в этой книге не в аналитическом, а в общем смысле. При этом термин упоминается часто, как и другие, такие как «Евразия, исламский мир и Турко-Персия», в зависимости от контекста. С такой комплексной историографией в наличии Центральная Азия представляет собой удобный конструкт, обозначающий нечеткое пространство на карте между Каспийским морем и горами Тянь-Шаня, но с несколькими важными оговорками. Во-первых, мои исследования бухароцентричны, хотя и выходят далеко за политические границы города-государства Бухара. Это означает, что читатели чаще будут представлять себе пустыни и оазисы, чем горы и степи. Это также означает, что кочевая культура, которая обычно является символом Центральной Азии, часто остается на заднем плане. Второе предостережение заключается в том, что другие термины, используемые в этой книге, особенно исламские и персидские, которые более подробно рассматриваются в следующей главе, имели органическое значение в то время и в рассматриваемом месте и использовались более аналитически.
Памятуя об этом, давайте совершим тур по Центральной Азии, в ближайших пределах Бухары. Население города на рубеже XIX века составляло чуть менее 100 000 человек: что было немало по стандартам региона, но скромно, по сравнению с мусульманскими метрополиями, такими как Стамбул или Дели. Город мог похвастаться развитой религиозной и образовательной инфраструктурой, с медресе и мечетями практически в каждом квартале и куполами, возвышающимися на горизонте. Местные бухарцы говорили на сочетании персидского (ныне таджикского) и тюркского (ныне узбекского), или – если современная речь может быть какой-либо ориентиром – диалектом, сочетающим в себе элементы обоих. Однако многие другие языки, которые можно было услышать на семидесяти с лишним базарах города, наводят на мысль о его космополитизме. Русские купцы торговались с индийскими торговцами на улицах города, а в казармах казаки упражнялись в стрельбе вместе с иранскими артиллеристами. Подавляющее большинство жителей были мусульманами-суннитами, но они жили вместе со значительным еврейским, шиитским и (к концу XIX века) русским православным меньшинством.
Картина становится более красочной еще за чертой города. Села арабов расположены вперемешку со ставками кочевников разных мастей, в том числе казахов и туркмен. В нескольких милях от Бухары лежал главный храмовый комплекс Чахар Бакр, а за его пределами оазис разбавляли города с более скромной инфраструктурой. В соседнем Гиждуване располагалось медресе, построенное внуком Тимура Улугбеком, а такие поселения, как Пирмаст и Вабкенд, были известны как святые места. Всего в нескольких днях езды на юго-запад, за Бухарским оазисом, стоял Карши, город, восстановленный монголами, с населением примерно в пятую часть размера Бухары. Примечательно, что Карши был одним из немногих городов, находившимся под постоянным контролем Бухары на протяжении всего периода, описанного в этой книге, – в отличие от знаменитого Самарканда, который был аннексирован Россией в 1868 году. Тем не менее Самарканд находился под контролем Бухары на протяжении большей части доколониального периода, и он был городом по населению и инфраструктуре, сопоставимым с Бухарой, будучи центром власти Тимуридов в течение нескольких столетий.
В бухарскую культурную орбиту входило несколько субрегионов, которые часто упоминаются в этой книге. К северо-западу, через пустыню Кызыл Кум, находился оазис Хорезм, могущественное государство, широко известное по названию своего главного города, Хивы. К югу от Бухары лежит территория, которая сейчас является северным Афганистаном, но упоминается здесь как Хорасан (или, точнее, Восточный Хорасан), поскольку была окончательно включена в состав афганского государства только во второй половине XIX века. В этом регионе к югу от реки Амударья культурно доминировал город Балх, который сейчас находится в тени Мазир-и-Шарифа. К востоку от Бухары, минуя Самарканд и Шахрисабз, расположена горная территория нынешнего Таджикистана, именуемая в этой книге Кухистан («горное место»). К северо-востоку от Самарканда стоят города Джизак и Ташкент на пути к плодородной Ферганской долине, в которой с середины восемнадцатого века до российской аннексии 1876 года доминировал город-государство Коканд.
На востоке, в Ферганской долине, над горами Тянь-Шаня находится бассейн Тарима, который был частью Китайской империи Цин с 1750-х до 1865 года, а затем снова с конца 1870-х годов до 1911 года (включая период мусульманского государства при Якуб-беке). Городские оазисы Таримского бассейна, хотя и несколько обособленные в академической литературе, были, пожалуй, ближе с точки зрения культуры к территориям Хорезма, Бухары и Ферганской долины, чем к степной полосе кочевников на севере.
Центральная Азия была окружена остатками «пороховых империй» раннего модерна и новыми колониальными державами. Что касается последних, то границы Российской империи уже приближались в восемнадцатом веке и к 1886–188 гг. полностью окружили Центральную Азию. Китай – одновременно жертва колониализма и колонизатор – также находился в двух шагах к востоку на протяжении всего периода, охватываемого этой книгой, покорив Таримский бассейн уже в середине восемнадцатого века. Афганская империя Дуррани ненадолго укрепилась в Хорасане (северо-восточный Иран) в конце восемнадцатого века, но власть Кабула еще на распространялась на регионы, граничащие с Бухарой. Политика других выдающихся держав той эпохи, особенно каджаров, османов и того, что осталось от Великих Моголов (британцы свергнули последнего императора в 1857 году), была менее ощутимой.
Периодизация и геополитический фон
Два политических события образуют временной период, обсуждаемый в этой книге: крах империи Надир-шаха в 1747 году и большевистская революция в 1917 году (окружившая Бухару с наступлением Красной армии в 1920 году). Однако многие из тематических арок книги не привязаны к этому периоду и имеют больше преемственности с эпохой раннего модерна в Евразии, уходящей корнями в шестнадцатый век – и даже раньше по некоторым направлениям. Эта книга увлекается «множественными темпоральностями» в зависимости от рассматриваемого вопроса. В одних случаях упоминается дихотомия домодерна и модерна, в других – преемственность «высокого персидского государства», а в третьих (реже) доколониально-колониальный раскол. У всех есть свои достоинства и недостатки.
Поскольку политическая история не является центральным понятием, главы организованы тематически, а не хронологически. Одной из замечательных характеристик улемов как социальной группы была их способность перемещаться между территориями, не обращая внимания на изменение государственных границ. Научная элита зависела от тюркской знати, так как та предоставляла ученым покровительства и средства к существованию. Однако многие потенциальные спонсоры позволяли улемам свободно перемещаться между государствами даже посреди смен режима. Тем не менее, необходим некоторый базовый исторический нарратив, чтобы дать представление о глубоких геополитических трансформациях, которые развернулись в течение рассматриваемого периода времени.
Научная элита зависела от тюркской знати, так как та предоставляла ученым покровительства и средства к существованию.
До колониального периода история Центральной Азии представляла собой периоды взлета и падения сменяющих друг друга степных империй: разросшихся государств, основанных на (буквально) конной силе – скифов, сельджуков, монголов, тимуридов и многих других. Эти династии кочевых скотоводов правили обширными евразийскими империями, которые включали как пастбища, так и оседлые районы. Как заметил Ибн Халдун столетия назад, эти династии часто начинали воинственные завоевания, только для того чтобы принять городскую культуру недавно включенных территорий и переселиться в дворцы в течение нескольких поколений. Этот повторяющийся процесс синтеза тюрко-кочевых традиций и городской персидской культуры привел к появлению термина «Турко-Персия», охватывающего регион в целом. Последние примеры такого правления – Шейбаниды (1500-1599 гг.) и их преемники Аштарханиды (1599 г.) -1747), которым удалось установить некоторую степень имперского контроля над большей частью Центральной Азии и за ее пределами.
Турко-персидский завоеватель Надир-шах Афшар сыграл катализирующую роль в изменении этой модели. Построив армию, сочетающую традиционную кавалерию с превосходной технологией огнестрельного оружия, Надир-шах сокрушил бухарского правителя Аштарханидов в 1740 году. Эта убедительная победа оказалась предвестником военного господства России столетием позже и положила начало эре раздробленных городов-государств и комплексных, частично пересекающихся форм суверенитета. Большая часть литературы придерживается модели «трех ханств», считая Бухару, Хиву и Коканд доминирующими политическими единицами еще до того, как эти государства стали протекторатами России в середине девятнадцатого века. Эта модель «трех ханств» затрудняет понимание эпохи конкурирующих, культурно близких городов-государств, сатрапий и стремящихся к росту империй в период до русского завоевания.
В этой сложной геополитической среде династия, которая наиболее часто встречается в этой книге, – это династия мангытов (ветвь узбекского племени), правившая городом-государством Бухара с 1747 по 1920 год. Самые ранние мангыты начали свой подъем во время служения последним ханам Аштарханидов, с местной опорой в Карши, и часто выступали реальной силой, стоящей за троном. Поражение Аштарханидов от рук Надир-шаха Афшара укрепило мангытов. Их основатель, Мухаммад Рахим Бий, служил в армии Афшаридов и в конечном итоге участвовал в казни последнего бухарского правителя, потомка Чингисхана.
Ранние правители мангытов добились определенных успехов в расширении границ города-государства за пределы Бухарского оазиса. Шахмурад (годы правления 1785-1800) завоевал Мерв в 1788/89 году, хотя и не смог ввести его навсегда в состав Бухары. Он также оспаривал власть дурранского правителя Кабула Тимур-шаха за контроль над восточным Хорасаном (особенно над регионом Большого Балха), но этот конфликт закончился тупиком. Тем не менее правление Шахмурада было периодом скромного государственного строительства, особенно по сравнению с катастрофическими последними десятилетиями предыдущей династии Аштарханидов. Правление его сына и преемника Амира Хайдара (годы правления 1800-1826) было менее благоприятным. При Хайдаре Бухара пострадала от вторжений со стороны Хивы, проиграла Коканду какое-либо сохраняющееся влияние на Ташкент и Сырдарьинский регион и пережила многочисленные племенные восстания. В этот период город-государство Бухара в значительной степени ограничивалось своим оазисом плюс Самарканд, хотя даже контроль над Самаркандом не был полностью последовательным.
Государству мангытов было далеко по размеру до своих предшественников Аштарханидов
В течение последних десятилетий перед российским завоеванием мангытская Бухара была одним из последних примеров экспансии «раннего модернистского государства» в регионе, наряду с аналогичными примерами в Хорезме, Коканде, Каджарском Иране и Афганистане. Военные победы этих государств полагались на кавалерию, как и степные империи древности, но также опирались на новые пороховые технологии, как и непосредственно предшествовавшие им пороховые империи. В гораздо большей степени, чем Аштарханиды, Насрулла (годы правления 1827-60) агрессивно включил в свою армию артиллерию, обученную русскими и иранскими войсками. Он использовал ее для обеспечения баланса между племенными конными отрядами под его командованием, так и для победы над соперничающими городами-государствами. Часто, однако, существовала тонкая грань между уговорами непокорных племенных единиц и подчинением конкурирующих политий.
Таким образом, невозможно провести прямую линию политического военного упадка от Надир-шаха до русского завоевания: у Насруллы были свои победы. Однако масштабы расширения Бухары в ближайший доколониальный период не следует переоценивать. Государству мангытов было далеко по размеру как до своих предшественников Аштарханидов, так и до современных амбициозных империй, таких как Каджарский Иран или Афганистан. Даже при агрессивном правителе, таком как Насрулла, дни экспансии Бухары остались в прошлом.
Эпоха полуавтономных городов-государств закончилась с завоеванием России и военными успехами афганского правителя Абд аль-Рахмана (годы правления 1880–1901). В русском Туркестане нескольким городам-государствам “повезло”, что они сохранились в качестве протекторатов (а именно, три ханства Бухара, Хива и – до 1876 года – Коканд), но природа государства была радикально трансформирована под «защитой» России. С российскими войсками, гарантирующими территориальную целостность, правители протектората расширили свой контроль над территориями, которые ранее были независимыми или, по крайней мере, полуавтономными, и эксплуатировали новые технологии для добычи ресурсов. В случае с Бухарой, это означало, что контроль протектората расширился над Шахрисабзом и Кухистаном (который стал «восточной Бухарой»), в то время как территории, поглощенные русским Туркестаном, в первую очередь Самарканд, навсегда ускользнули от его досягаемости.
В колониальный период улемы находились под протекторатом в пределах непосредственно управляемого русского Туркестана и за его пределами. Различия между прямым и косвенным правлением были весьма важны, особенно с точки зрения исламских ученых. Россия уничтожила тюркское дворянство, а это означает, что динамика патронажа изменилась в непосредственно управляемых территориях после 1865 года (то есть, завоевание Ташкента и последующее учреждение генерал-губернаторского звания). Русские внедрили двойную правовую систему в Туркестане, а это означало, что многие улемы сохранили такие должности, как кази (хотя и под другим названием – “народные судьи” после 1885 года), но были обязаны своим положением местным выборам. Улемы адаптировались к изменениям, и колониальная система не препятствовала их перемещению: а в некотором смысле – например, строительство железных дорог – даже облегчала. Но переезд из Бухары в Самарканд, например, был в 1865 году совершенно иным мероприятием, чем он был в 1875 году.
Таким образом, эта книга также посвящена Российской Империи или, по крайней мере, ее подданным. Российское имперское присутствие косвенно открыло новые ресурсы для тюркской военной элиты, которые те вложили в создание новой религиозной инфраструктуры и покровительство персидской литературной культуре. Улемы Туркестана и протектораты не были интегрированы в Оренбургское Духовное Собрание, как мусульмане Волго-Уральского региона, и остались в стороне от нового мира, стучащего в ворота.
Фрагментарный историографический пейзаж
Эта книга затрагивает разные историографии, в первую очередь Центральной Азии, Российской Империи. Южная Азия и исламоведение.
Хотя количество работ по изучению как доколониальной Центральной Азии, так и российского Туркестана стремительно росло с момента открытия советских архивов в 1991 году, до сих пор нет подробного описания центральноазиатских улемов в какой-либо период времени, несмотря на их критическое влияние как социальной группы во времени и пространстве. Напротив, соответствующим политическим историям династии мангытов Бухары, династии Мин в Коканде и династии кунгратов в Хиве в последнее время было посвящено несколько важных работ. Между тем, литература о суфизме Центральной Азии в этот период была развита до такой степени, что стала представлять интерес для ученых других областей, как и история периферии Российской империи. Несмотря на эти научные достижения, литература о Центральной Азии скудна по сравнению с другими областями. Гораздо более крупная культурная ойкумена, Турко-Персия была колонизирована по крайней мере тремя отдельными империями – Россией, Великобританией и Китаем – и здесь исследования Южной Азии, в частности, предлагают обширную литературу, с которой можно взаимодействовать. В изучении Центральной Азии часто помогают тексты, формы знаний и культурные символы, которые пронизывают Афганистан и Империю Великих Моголов, а также идеи, полученные в результате соответствующего изучения.
Эта книга рассматривает бухарских улемов в контексте их предшественников в средневековом Нишапуре или Дамаске, а в других случаях она сравнивает города-государства долгого девятнадцатого века с городами древней Согдианы. Насколько это возможно – вопрос спорный. Но то, что упадок согдийской высокой культуры может рассказать нам что-то о персидском мире или новаторский подход Низами к пониманию универсального персидского царствования Александра может помочь нам понять бухарские хроники девятнадцатого века, делает эту историю такой увлекательной.
Территории, казавшиеся периферийными для Москвы или Лондона, тоже были чьей-то окраиной или даже самостоятельными центрами.
Хотя в историографии и произошел «имперский поворот», который продуктивно сместил внимание к окраинам от имперских центров, до сих пор не хватает изучения взаимодействия с так называемыми приграничными территориями на их условиях. Территории, казавшиеся периферийными для Москвы или Лондона, тоже были чьей-то окраиной или даже самостоятельными центрами. Эта книга серьезно относится к глубоким изменениям, вызванным колониализмом, а ее персонажей можно считать, пожалуй, наименее интегрированными подданными Российской империи (и, тем более, Китайской и Британской империй).
Архивы и библиотеки, рукописи и документы
Ни одно из государств, обсуждаемых в этой книге, не сохранилось до наших дней, равно как и не существует какого-либо государства-преемника, охватывающего все тюрко-персидское культурное пространство. Следовательно, записи разбросаны по Евразии между многочисленными странами и хранилищами. Исследования проводились в основном в архивах и библиотеках рукописей в Узбекистане, России, Таджикистане и Индии.
Не менее важен, чем язык и хранилище, вопрос текстового жанра. Главный аргумент этой книги заключается в том, что улемы были непревзойденными эрудитами, и их разные жанры освещают разные грани их мира. В Бухаре было выпущено несколько биографических словарей (тазкира), в которых конкретно каталогизируются великие поэты этого ханство. Они состояли от сотен до нескольких тысяч отдельных записей, обычно по несколько сотен слов каждая. Большинство биографических словарей посвящены одной дисциплине, и почти все словари, составленные в Бухаре в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, составляют каталоги поэтов. Подобно предшествующим исследованиям улемов, в этой книге широко используются источники тазкиры разного толка.
Суфийским житиям уделялось особое внимание в исследованиях Центральной Азии. Форма этих источников варьируется от вариаций жанра биографического словаря, часто исключительно для конкретной суфийской духовной линии (силсила), до рассказов о чудесной жизни одного особенно возвышенного святого человека. Между тем хроники, как правило, сосредоточены на деяниях тюркской знати и исламских клериках в качестве второстепенных персонажей, и этот исторический жанр помогает завершить картину, представленную в других источниках.
Чтобы разобраться в юридических лицах улемов, я обращаюсь к жанру, который не получил должного внимания даже со стороны региональных специалистов. Коллекции рукописей Центральной Азии содержат десятки экземпляров практических тетрадей, известных как сборники джунг. Большинство сборников были преимущественно юридическими, но были также медицинские и литературные джунги и в большинстве из них проявлялась эрудиция их авторов. Юридические сборники часто собой транскрипцию заключений, собранных в одном месте для использования в будущем и представляющих собой промежуточную точку в жизненном цикле юриспруденции. Документы, на которых основывались эти записные книжки (например, фетвы), представляют собой еще одну исходную базу, на которую я опирался во время своих исследований.
Тем не менее, многие другие источники являются sui generis и не поддаются легким обобщениям. Некоторые ученые писали отчеты о своей жизни, но они настолько различаются по содержанию и стилю, что их вряд ли можно назвать жанром письма. Другие писали путеводители для паломников, а один бухарский ученый даже написал географию дружбы. Исламские ученые, пишущие о Бухаре извне, часто включали детали и идеи, отсутствующие в местных источниках. И российские источники характеризуются проблемами, принципиально отличными от всех перечисленных, и дают важные идеи, которых нет в местных письменных источниках.
Основные аргументы
Главы в книге организованы скорее тематически, чем в хронологическом порядке. Книга начинается с описания возникновения и мифологизации Бухары, а затем исследуются улемы как социальная группа с точки зрения их культурной роли и взаимоотношений с военной элитой.
Первая глава предлагает концептуальное обсуждение ислама в Турко-Персии, дает пищу для размышлений об элитной культуре, а не национальной. Здесь объясняется, как тюркская культура связана с персидской, а высокая персидская культура, в свою очередь, связана с исламом. Во второй и третье главах рассказывается история становления Бухары как священного центра ислама. К колониальному периоду исламские ученые преуспели в создании мифологизированного религиозного и культурного имиджа Бухары, освятив географию города символами из священной исламской истории и персидской литературы. В третьей главе изучается, как сильно развился бренд бухарского образования, создавший «маленькие персидские сферы», расходящихся наружу от города. Если в первых главах задается вопрос, где исламский ученый может применить навыки и знания, полученные в Бухаре, в последующих разделах исследуется, что он мог бы сделать с этими формами знаний. В этих главах собраны данные из биографических словарей, чтобы объяснить, как происходил личностный рост «высокого персидского интеллектуала» в Центральной Азии. В предшествующие века роли суфия, юриста, поэта, каллиграфа или оккультиста часто подразумевали отдельные социальные группы. Однако к XIX веку один человек часто владел всеми этими навыками. Эти образы практически полностью пересекались, что противоречило общепринятым различиям между суфиями и улемами как отдельными общинами.
В главах 7 и 8 исследуются отношения между улемами и военно-политической властью. Завоевания Надир-шаха Афшара привели к власти не только новые тюркские военные династии, но и династии ученых. Бенефициары этого драматического политического переворота завещали удивительно стабильную динамику власти своим наследникам, которые составили ядро персианатской элиты, поддерживавшей центральноазиатское общество до большевистского завоевания. Даже когда исламские ученые полагались на покровительство тюркской военной элиты, они защищали независимость и превосходство своих нравственных установок. К концу девятнадцатого века тюркская элита усилила свой контроль над улемами, а в некоторых случаях улемы даже начали подрывать свою собственную моральную автономию и право независимо толковать религию. Тем не менее, разрыв между идеологией и практикой означал, что исламские ученые часто подрывали и даже бросали вызов самой власти, на которую они полагались в своих материальных ресурсах. Бухарские улемы олицетворяли социально-культурную ориентацию, принципиально отличную от сегодняшних дней.
Геополитический ландшафт Центральной Азии “длинного девятнадцатого века” включал множество действующих лиц и сетей, которые не поддаются простой классификации. Вместо того, чтобы обращаться к политическим границам или национальным категориям, эта книга фокусируется на космополитической персо-исламской культуре и ученых, которые жили и дышали ею. Модернистские проблемы, такие как идентичность и этническая принадлежность, сбивают нас с понимания атмосферы старой социальной логики, где главным было владение элитными текстами и секретами коммуникации. Даже после того, как этот более широкий культурный мир был разделен между колониальными империями, космополитическая персидская культура не только выжила, но и процветала: в конце концов, ее существование никогда не сводилось к какому-либо отдельному государству и не зависело от него. Книга – это история последнего исторического момента устойчивой культурной картины и ее акторов с тысячелетними корнями, которые оказались несовместимыми с -измами -национализмом, социализмом, атеизмом, исламизмом и модернизмом – 20-го столетия.