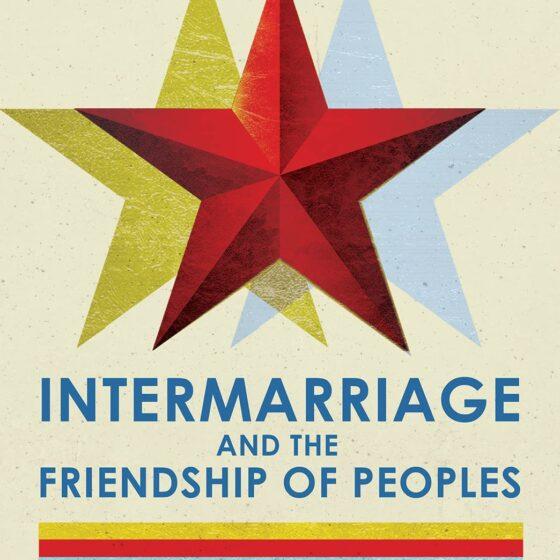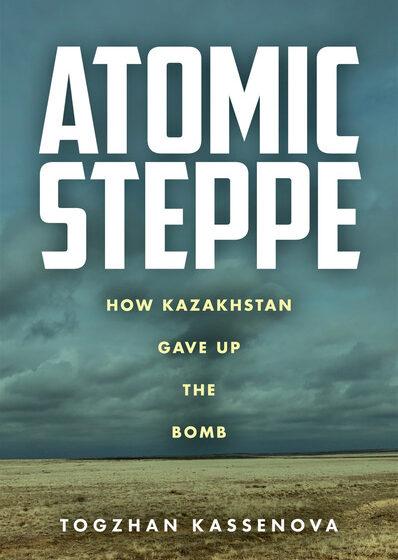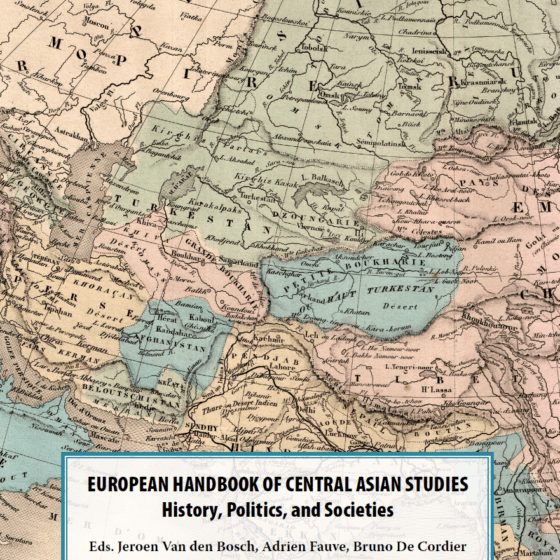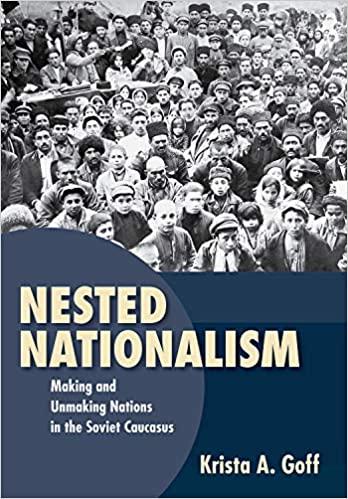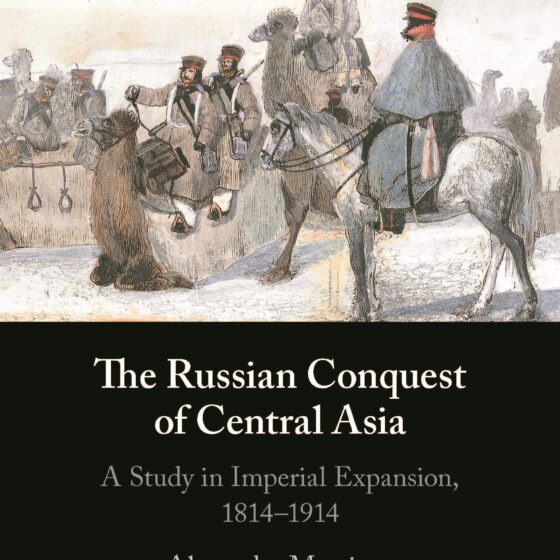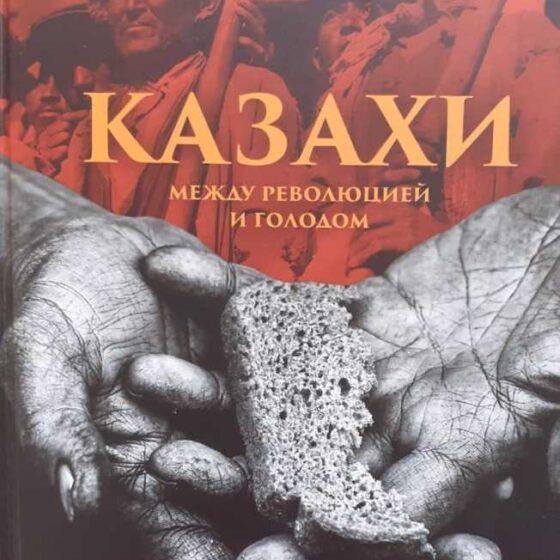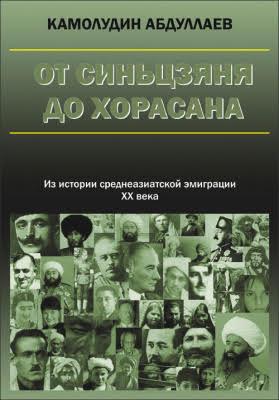Изучение истории создания советских социалистических республик в Центральной Азии – всегда интересный процесс. Как описала это в своей книге Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan (Princeton University Press, 2004) Адриенна Эдгар: «поразительно не то, как государства Центральной Азии были построены сверху вниз, а то, что их архитектором было социалистическое государство, нацеленное на мировую пролетарскую революцию».
По Эдгар, применительно к Туркменистану, этот процесс национального строительства состоял из двух частей. Первая – это создание туркменской нации, вторая – построение социализма. Книга Эдгар показывает, как национальная идентичность турмен сложилась в результате динамичного взаимодействия этих двух разных факторов, а советские идеи, в том числе язык и территория, были приняты туркменами в качестве элементов идентичности. При этом туркмены никогда не отказывались от своей племенной принадлежности, основанной на генеалогии и обычаях (адат). В этом и загадка, вынесенная в название книги – бывает ли нация, состоящая из племен?
Часть 1. Построение нации
Перед революцией туркменские племена российской Закаспийской области отличались четко соблюдаемыми генеалогическими линиями, уходящими корнями к мифологическим предкам, разными диалектами и орнаментами. Кочевники-скотоводы, они не имели очерченной территории, общих политических институтов, общей письменной массовой культуры и систем формального образования. Каждое туркменское племя было связано с одним из сынов Огуза (йомуды, теке, салыры, гокленги, эрасиры и др) и «каждое имело свою родословную, историю, легенды и мифы. И даже определенный туркменский диалект, тип одежды и ковровых орнаментов». При этом обычное племенное право «адат» регулировало все аспекты жизни.
В таком контексте, как отмечает Эдгар, внутреннее единство республики было непростым делом. Новая республика была этнически неоднородной – туркмены составляли в ней около 77 процентов от общей численности населения республики, составляющей около миллиона человек. Остальными были узбеки, русские, казахи. Отсутствие туркмен в городских районах представляло особую проблему для советских модернизаторов, пишет автор, так как города были населены в основном татарами, русскими, узбеками, армянами и иранцами. По данным книги, в 1923 году из 943 701 жителей городов Туркестан и Хива менее 1000 были туркменами.
Туркменам, как и другим жителям Центральной Азии в советское время, пришлось пройти через процесс, где внутренние различия в рамках отведенных границ должны были быть сведены к минимуму, а различия с внешними группами (такими как узбеки, кыргызы и казахи), наоборот, подчеркиваться. Развивая идеи историка Рональда Суни, исследование Эдгар оспаривает мнение ученых, утверждающих, что в создании национальных республик в Центральной Азии был применен принцип «разделяй и властвуй». Она убедительно утверждает, что разграничение границ 1920-х годов «просто институционализировало и углубило разделение, которое уже существовало» в результате компромисса «между центральными советскими властями в Москве и местными коммунистами в Центральной Азии». Она пишет: «интерес к единому Туркестану выказывала небольшая группа городских интеллектуалов, многие из которых впоследствии стали ведущими фигурами в Узбекской Советской республике. Элиты других групп были менее оптимистичны, опасаясь, что пан-туркестанское единство будет означать господство узбеков». В Туркменистане перспектива получения государственности приветствовалась крошечным туркменским средним классом, связывавших с ней свои карьерные и образовательные возможности. После некоторых дебатов в 1924 году была определена национальная территория и столицей стал город Ашхабад. Таким образом было создано довольно моноэтническое государство со сравнительно меньшими трудностями, чем где-либо еще в Центральной Азии.
Этнические напряжения
В стремлении отличиться от царской администрации, советские власти ставили перед собой задачу коренизации и строительства национальной элиты. Усилия были направлены убедить нерусские народности в том, что советское правительство поддерживает их стремление к самоопределению и культурной автономии. Но это оказалось сложной задачей. Многие туркмены были неграмотны, предпочитая традиции устной передачи знаний, отмечает историк. «Только распространение советских школ по всей республике могло создать более крупный резерв потенциальных работников для советского режима».
Туркменам в сельской местности приходилось приспосабливаться к городской жизни, проходить уроки грамотности и привыкать к бюрократической общественной работе, которая в основном велась на русском языке. По мере становления туркмен как единой нации росли разногласия между туркменами и европейскими коммунистами внутри компартии Туркменистана. Эдгар утверждает, что напряженность была связана с повышением самосознания и роста уверенности в себе туркменской группы: «если до создания туркменской республики некоторые члены туркменской партии полагались на европейских коммунистов для защиты от других этнических групп Центральной Азии (например, узбеков), то после делимитации границ туркменские чиновники оказались в прямой конкуренции за рабочие места и политическую власть с европейцами». Обе стороны чувствовали себя жертвами: русские возмущались продвижением некомпетентных туркмен, а туркмены не чувствовали себя хозяевами в своей новой стране, ведь реальная власть всегда оставалась у представителей европейской национальности, которые к тому же настаивали на социалистической модерности, искоренении «отсталости» (племенных обычаев, религиозных обрядов, неграмотности, подавления женщин). Чувство того, что с ними обращаются как с гражданами второго сорта в собственной республике, вызвало недовольство и усилило идентификацию туркмен как единого народа.
Чтобы устранить почву для конфликта, власти сочли нужным сменить приоритеты и отступить от политики коренизации. Более того, «если в 20-е годы власти говорили, что великорусский шовинизм был главной угрозой национальной политике партии, в 1934 году Сталин изменил свою позицию заявив, что «местный национализм» может быть столь же вредным, как и «великодержавный шовинизм».
Создание языка
Отдельную главу Эдгар посвящает созданию туркменского языка и дебатам 20-х гг о том, какой диалект использовать в качестве основополагающего. Книга рассказывает, как туркмены с самого начала не желали принимать османский турецкий язык и хотели принять туркменский как отдельный язык. Задача заключалась в объединении различных туркменских диалектов в один литературный язык и таким образом сделать язык фактором идентичности в Туркменистане.
Лингвистический конгресс 1936 года окончательно закрепил централизацию языковой политики. Дебаты о языке, только было развернувшиеся на страницах туркменской прессы, были прекращены и последовало «послушное исполнение всех мер, указанных Москвой». Идеальным туркменским языком стал вариант с заметными следами «прогрессивного» классового содержания, близкий к русскому. Впоследствии эта централизация языковой политики, а также репрессии и «дискредитация отцов-основателей туркменской лингвистики проложила путь к централизованному и почти единогласному принятию кириллицы в 1940 году».
Построение социализма – часть II
Во второй части Эдгар подробно описывает усилия по построению социалистического общества, включая попытки побороть “классовые различия” и провести земельную реформу и коллективизацию.
Классовая борьба стояла отдельной задачей для большевиков. В эгалитарной кочевой культуре, в которой выпас скота и, что еще важнее, водопользование были клановой и племенной коллективной собственностью, передаваемой семейным домохозяйствам во временное пользование, лидеры выбирались на основе консенсуса. Богатство или бедность определяли размер стада, погодные условия и отношения с соседями, набеги которых могли привести к быстрому разорению. В этом довольно бесклассовом обществе существовал нижний класс, не имевший широкого доступа к земле и воде, и чаще всего он состоял из представителей побежденных племен и меньшинств, таких как курды, персы и белуджи. Но Советы не терпели традиционной бесклассовой системы, основанной на клановости, и вели борьбу с классовыми врагами, “кулаками”, которые должны были быть ликвидированы.
Это оказалось трудным, потому что именно племена с общей генеалогией, а не классы, выступали первичными единицами организации для населения. Пытаясь демонтировать племенной порядок и создать класс бедных крестьян, подконтрольных режиму, большевики также пытались привлечь на свою сторону все племена через политику «паритета племен» (tribal parity), объясняет Эдгар. Но эти противоречивые меры усилили те самые элементы, с которыми боролись большевики.
Особое внимание Эдгар уделила водно-земельной реформе 1925-1926 гг., коллективизации и протестам, которые они вызвали в сельской местности. Влиятельные туркмены, находившиеся у власти, спасались, оформляя себя как фермеров/крестьян, a комиссии по земельной реформе состояли из представителей доминирующих племен – аксакалов. Те делали все возможное, чтобы подорвать земельную реформу, и в некоторых местах она происходила лишь фиктивно. Главы семейств разделяли свою собственность между своими сыновьями и другими родственниками, чтобы избежать раскулачивания [1].
Усилия по ведению классовой борьбы достигли наивысшей точки в 1930 и 1931 годах с кампанией по ликвидации «кулаков» и обличения «эксплуататоров». Весной 1931 года эта насильственная политика вылилась в массовые восстания – в особенности в отдаленных регионах, населённых кочевниками. Эдгар описывает, как туркменские скотоводы сжигали и грабили колхозы, а многие туркменские племена перекочевали в Афганистан вместе со своими стадами[2].
В результате местные жители переняли соответствующую риторику: «вместо классовых союзников и врагов, туркменские общины были разделены на «иг» (ig) и «гул» (gul)[3], на завоевателей и завоеванных, на доминирующие племена и «пришлые» племена». Эдгар приходит к выводу, что клановость была самым близким к классу понятием в туркменском обществе, и поэтому бороться с одним, пытаясь продвигать другое, оказалось попросту невозможным.
Колхоз – дело недобровольное
Эдгар особенно описывает насильственную коллективизацию туркмен как часть «модернизации». «Настоящим толчком к восстанию 1931 года стала советская кампания за коллективизацию сельского хозяйства в 1929-30 годах», отмечает она. Эта вспышка насилия была одной из острейших в Советском Союзе, показывая недоверие сельских жителей к инициативам Советов. Коллективизация сопровождалась кампанией, заставлявшей сельское население выращивать хлопок вместо продовольственных культур. Центральная Азия должна была продолжать играть роль источника сырья в индустриально развитой советской экономике (несмотря на риторику Советов о том, что такая эксплуатация была целью лишь царской России).
У волнений были очевидные экономические причины. Например, фермеры требовали лучших условий для урожая и протестовали против конфискации домашнего скота[4]. Не добившись этого, они мигрировали в Иран и Афганистан. Но сопротивление не изменило курс советской политики, хотя действия крестьян и кочевников вызвали принятие определенных смягчающих мер. Эмиграция племен привела к уступкам в приграничных регионах, а активное противодействие кочевников коллективизации заставило власти принять более свободную форму хозяйства, известную как ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли). Кроме этого, отмечает Эдгар, решив вернуть коллективизированный домашний скот его владельцам, режим тихо позволил туркменским скотоводам вернуться к образу жизни, который они вели до коллективизации.
Эмансипация непокрытых
Эмансипация женщин также сопровождалась сложностями в Туркменистане. Кочевые туркменки не носили паранджу, но власти решили взяться за яшмак – платок, которым туркменские женщины прикрывали нижнюю часть лица в присутствии родственников, а также за традиционные брачные практики.
«Женский вопрос» преследовал цель реформирования семейных отношений. Он был еще одной необходимой мерой для построения нового социалистического общества. В тандеме с другими советскими мерами, такими как земельная реформа и племенная политика, политика эмансипации должна была изобрести новую жизнь туркменской семьи и общины. Однако, в отличие от позитивного восприятия советских инициатив по созданию единого туркменского языка и отдельной территории, гендерная политика встретила ярое сопротивление туркмен. Когда туркменкам было разрешено разводиться по своему желанию, эта практика была воспринята в штыки. Особенно были недовольны бедные сельскохозяйственники, на поддержку которых режим рассчитывал в построении социализма[5] . Впоследствии власти сочли нужным скорректировать реформу – быстрое оформление развода по воле женщин было прекращено, и дела о разводах отныне передавались в суд.
Идеологическая работа тоже не проходила гладко. Например, посещение собраний по эмансипации было неприемлемо для многих женщин, которые считали их пустой тратой времени. Но власти пытались действовать методом принуждения – женщин заставляли приходить на встречи и принуждали мужей обеспечить явку супруги[6]. В конце, как отмечает Эдгар, власти признали, что лучший способ мобилизовать женщин – это привить советские идеи новому поколению девушек: «в 20-30-х годах советское государство стало мобилизовать новое поколение молодых женщин, которые, в отличие от своих матерей и бабушек, воспользовались шансом получить высшee образование, сделать карьеру на госслужбе и получить другие советские возможности».
Какова природа советской атаки на обычаи, – спрашивает Эдгар, – было ли это лишь чистым колониализмом? В отличие от других европейских правителей неевропейского населения, Советы стремились мобилизовать женщин для получения образования, карьеры и политической активности, отмечает она, и коммунисты стремились освободить женщин и в самой России. Этим советское государство напоминало Турцию Кемаля Ататюрка, проводившего гендерную реформу как проект модернизации. Однако, как поясняет Эдгар, «в Турции эта реформа удалась, потому что изменение статуса женщины происходило в контексте укрепления современного национального государства, а не колониального принуждения». Согласно Эдгар, инородный характер Советов объясняет, почему власти не смогли убедить туркмен в том, что эмансипация женщин была необходима для их будущего как нации.
Заключение
Советское правление принесло туркменам четко ограниченную территорию и язык, а с ними и развитие общей идентичности. Oднако территория и язык не были первостепенными понятиями для туркмен. Их идентичность, в первую очередь, была больше связана с генеалогией и обычаями, роль которых сохранялась на протяжении всего советского периода и после него. Это позволяет понять, почему всё, что угрожало «адату», воспринималось враждебно. К этому относились и изменения гендерной роли. Несмотря на запреты, такие обычаи, как гялинг (калым или выкуп за невесту), гудалик (помолвка детей), гяршлик (обмен невестами) и др., сохранились в практике, за исключением меньшинства русифицированных туркмен[7].
Советское государство способствовало формированию национального самосознания и государственности среди многочисленных нерусских меньшинств. Но интересно то, как критикуя советскую власть, новое туркменское государство применяет те же советские методы и риторику, продвигая национализм. Однако, как отмечает Эдгар, в отличие от советских времен, когда национализм и построение социализма противоречили друг другу, в Туркменистане новой эпохи этого конфликта уже нет.
«Племенная нация» – первая книга на Западе о Советском Туркменистане и одна из немногих, посвященных исследованию советского многонационального государства с иной перспективы, чем российские работы. Исследуя советское национальное строительство в одном из самых плохо изученных регионов Советского Союза, оно также ставит более широкие вопросы о национализме и колониализме в двадцатом веке.
[1] В результате, количество домохозяйств в области Мары выросло с 18 683 до 24 134 практически за ночь.
[2] Данное положение повлияло и на то, как Советы стали смотреть на кочевников. Если до 1928 года Советы приветствовали стремление кочевников к равенству и свободе, предполагая, что они с легкостью могут быть советизированы, со временем они стали восприниматься как антисоветские люди. Именно мобильность кочевников и их сопротивление «советизации» привели к тому, что их стали приравнивать к кулакам и «нетрудящимся», и, следовательно, подлежащим «ликвидации».
[3] “Иг» – «чистокровные», а «гул» означает «раб».
[4] Недовольство было массовым, в демонстрациях принимали участие и туркменские женщины. Эдгар сообщает, что в акции протеста 4 марта 1930 г. в местности Бешир участвовало 800 человек и марш возглавляли женщины. Они требовали роспуска колхозов и изгнания европейцев. В протестах в Гёктепе женщины жаловались, что их дети голодают в результате отъёма животных.
[5] Это было связано с тем, что некоторые женщины разводились с бедными мужьями, чтобы выйти замуж за более богатых. Недовольство было таким сильным, что местные чиновники даже предупреждали о возможности восстаний.
[6] Тем не менее, обучение навыков женщинами приветствoвалось, потому что такие классы помогали семьям получать доход. Изготовление ковров женщинами приносило от 30% дохода в туркменской семье.
[7] Автор также отмечает, что улучшение образования и занятости не зависели от искоренения традиционной семейной жизни