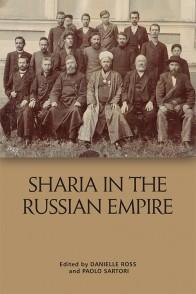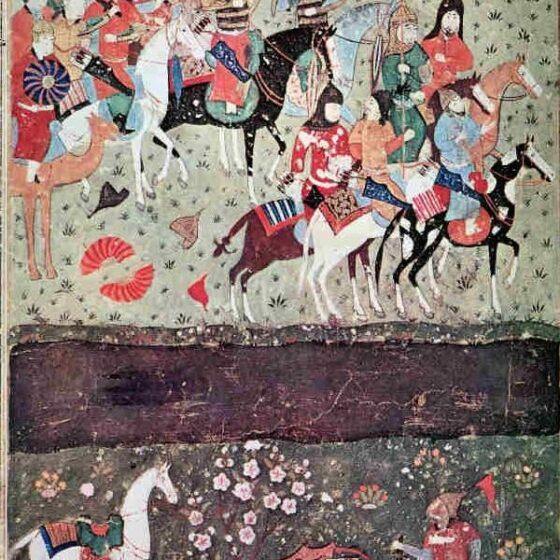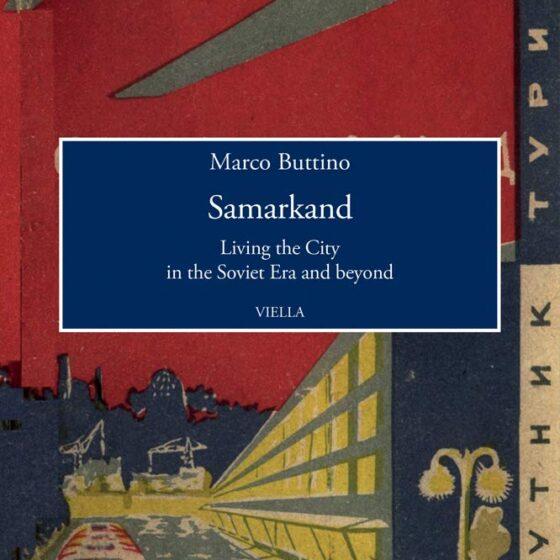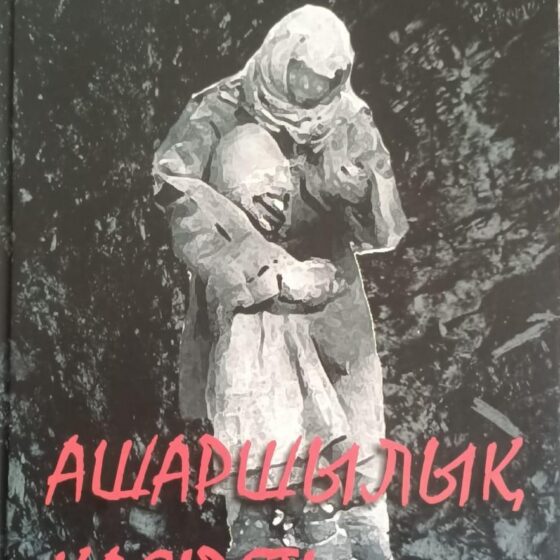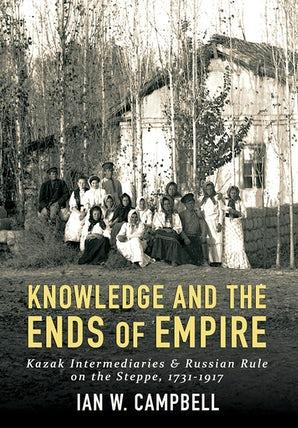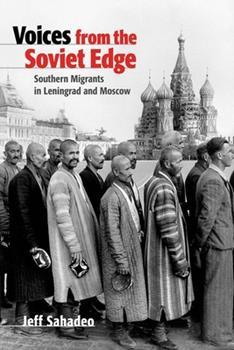Photo by Mint Images/REX/Shutterstock

Вы давно изучаете Центральную Азию. Каковы Ваши наблюдения по поводу исследований этого региона? Выделяются ли они как отдельная область региональных исследований или же это больше предмет более узкого изучения? Если последнее, то о каких межрегиональных темах идёт речь?
В течение последних 20 лет я занимаюсь изучением истории Центральной Азии периода ранней и поздней модерности в самых разных академических сообществах. Я учился в Италии, однако писал свою докторскую диссертацию уже находясь в Узбекистане, будучи в постоянных разъездах между Самаркандом и Ташкентом. Позднее я переехал в Германию в качестве постдокторанта и, наконец, обосновался в Австрии. Мои аристотелевские интеллектуальные «путешествия», с одной стороны, были вызваны неопределенным статусом центральноазиатских исследований, то есть дисциплины, которая в разные времена относилась к разным академическим областям (тюркология; русско-советские исследования; исламско-иранские исследования). Конечно, это правда что в период холодной войны история Центральной Азии стала своего рода заложником подобной раздробленности академических дисциплин и, как следствие, страдала от маргинализации. Изучение истории Центральной Азии долгое время воспринималось скорее как нетрадиционное занятие для исследователей России или советологов. Исследователи, занимающиеся изучением Центральной Азии, зачастую чувствовали себя на периферии относительно дебатов в области иранистики, и в конце концов заняли небольшую нишу среди тюркологов. Даже сегодня в Европе исследования по Центральной Азии зачастую воспринимаются сквозь призму их лингвистической специализации, и как следствие, «поглощаются» другими дисциплинами, имеющими более сильный институциональный статус (в особенности, на факультетах языков и литературы). Однако подобный подход к Центральной Азии мешает по достоинству оценить присущее ей многоязычие и то, как она одновременно позволяет изучать самые различные культурные сообщества, находящиеся далеко за её географическими границами. В конце концов, разве не Махмуд Ходжа Бехбуди отмечал, что для понимания Центральной Азии необходимы (по крайней мере!) четыре языка? С того момента, как мы подходим к истории регионa с точки зрения мультилингвизма, она перестает быть сугубо региональной дисциплиной (area studies), но становится, по существу, глобальным проектом.
Если перейти с лингвистических связей Центральной Азии на её более широкие социокультурные контакты, то можно увидеть формы её коннективности (connectivity) с другими регионами (Ближний Восток, Южная Азия, Внутренняя Россия, Сибирь и Восточная Азия) и оценить её глобальное историческое значение. В прошлом это осуществлялось посредством реконструкции маршрутов торговых путей, а также следуя по стопам интеллектуалов, двигавшихся по академическим маршрутам исламских империй. Однако этот же подход применим и ко многим другим темам исторического исследования: суфизм, история рабства, распространение революционеров – это лишь некоторые из примеров. Здесь можно назвать недавние исследования Джеффа Идена (Jeff Eden), Хоури Бербериана (Houri Berberian) и Лолы Джан (Lale Can). Поэтому хотя очевидно, что изучение истории Центральной Азии требует специфических навыков, это область, где культурные контакты могли происходить самым непредсказуемым образом. И нити этих контактов ведут в места, весьма отдаленные от Центральной Азии.
Какие перспективные направления наметились в исследованиях по Центральной Азии? Что бы Вы посоветовали молодым ученым региона?
С моей стороны было бы не вполне честным, и даже в некотором смысле, бесполезным, предложить одну конкретную тему и даже несколько тем. Чтобы ответить на Ваш вопрос, я хочу начать с простого замечания о том, что сегодня изучение истории Центральной Азии подразумевает наличие существенного преимущества в виде беспрецедентного уровня доступа к государственным и семейным архивам, а также к различного рода рукописехранилищам. Всего лишь несколько десятилетий назад исследователи могли только мечтать о подобных возможностях. Свобода, с которой мы можем сегодня обсуждать значение определенных культурных практик в истории Центральной Азии, не имеет аналогов в коротком XX веке.
Несмотря на то, что за последние несколько лет в динамике изучения история региона наметился существенный прогресс, приходится все же констатировать, что мы едва ли находимся в самом начале профессиональной дискуссии об истории Центральной Азии. Говоря о дискуссиях, я имею в виду прежде всего беседы, основанные на близком знакомстве с первоисточниками, а также на глубоком знании многих историографий. Подобные дискуссии характерны сегодня, например, в области изучения истории Южной Азии. Продолжая тему, мне бы хотелось призвать студентов обратить внимание на классические темы в истории Центральной Азии. Когда я заглядываю за пределы нашей дисциплины, я вижу, как выдающиеся специалисты по истории политической мысли постоянно производят разные толкования на труды Томаса Гоббса, Никколо Маккиавелли или Жана-Батиста Кольбера. Почему нельзя делать то же самое в отношении истории Центральной Азии? Регион в равной мере богат литературными памятниками (на арабском, персидском или чагатайском тюркском языках), и я нахожу странным, что сегодня ученые и студенты по-прежнему полагаются на издания и переводы основных произведений, выпущенных в XIX веке или в советское время. Кроме того, я часто сталкиваюсь с ошибочной общепринятой точкой зрения, согласно которой редактирование и/или перевод текста является не особо креативным интеллектуальным занятием, следовательно, делом, которое следует оставить филологам, а не историкам. Я уже писал об ошибочных предубеждениях относительно филологии, которые в настоящее время имеют хождение в западной академии, и в рамках этого интервью нет необходимости возвращаться к этой проблеме. Позвольте мне лишь добавить, что я не могу представить лучшего способа знакомства с культурой письма, чем знакомство с документальной «экологией», представляющей эту культуру.
Как исследователи региона могут публиковаться в респектабельныx научных журналах? Каковы основные препятствия для этого в настоящее время?
В действительности это зависит от того, что именно мы имеем в виду, говоря о «респектабельныx журналах». Вы имеете ввиду журналы из списка Scopus? Или те, которые отмечены индексами Thomson Reuters? Независимо от того, что подразумевается под этим, я вижу ряд вызовов для исследователей истории Центральной Азии. Первый вызов заключается в том, чтобы уметь изучать историю региона должным образом. Это, конечно, требует работы с разными жанрами и развития многих языковых навыков. Второй вызов – делать исследование истории Центральной Азии актуальным для широкого круга читателей, которые знакомы больше с другими историографиями и культурными географиями. Третий важный вызов состоит в том, чтобы писать на английском языке для аудитории, которая обычно обучается в западных академических кругах и поэтому размышляет через определенный набор эпистемологических понятий и зачастую использует достаточно сложный академический «жаргон». Для многих изучающих Центральную Азию (здесь я имею в виду не только коллег из Европы, но и из стран бывшего СССР) английский не является родным языком, a адаптация к стилистическим условностям, типичным для англоязычного читателя, может быть особенно сложной.
Вы участвовали в большом проекте, изучая документы и управление в исламской Центральной Азии. Можете рассказать нам немного об этом?
В течение последних шести лет я являюсь научным руководителем проекта под названием: «Сквозь призму архива: Документы и формы управления в исламской Центральной Азии в XVIII-XX вв». Проект получил финансирование Австрийского научного фонда; его цель состоит в выработке целостного взгляда на обширную коллекцию текстов, более известную сегодня под названием «Архив хивинских ханов». Эта коллекция документов была конфискована российскими войсками во время осады Хивы в 1873 году и, впоследствии, вывезена в Санкт-Петербург, где пребывала в забвении вплоть до 1936 года. Именно тогда известный советский исследователь Павел Иванов объявил о его повторном открытии. В 1962 году коллекция была возвращена из Ленинграда в Ташкент в рамках постколониальной кампании реституций. На сегодняшний день «Архив хивинских ханов» представляет собой самую богатую и логически связанную совокупность текстов, относящихся к доколониальному периоду истории Центральной Азии. При содействии двух ведущих узбекских специалистов, ныне занимающих позиции научных сотрудников (постдокторантура) в Институте иранистики в Вене, в рамках проекта к настоящему времени подготовлен первичный набор практически всех текстов этой коллекции. Однако, чтобы понять суть коллекции, необходимо научиться читать все эти записи не по отдельности, а во взаимосвязи с другими текстами, произведенными в регионе. Это задача представляла собой серьезный вызов, поскольку предполагала встраивание этих записей в более широкий текстуализированный ландшафт, к которому очевидно они относились изначально. В свою очередь, это подтолкнуло меня и моих партнёров к более углубленному изучению способов и путей производства знания в Хорезмского оазисе в эпоху ранней модерности и к размышлениям об исторической эрозии, произошедшей в последующие эпохи. Это сподвигло Нурёгди Тошева, например, заняться реконструкцией библиотеки ханов Хивы. Бахтияр Бабаджанов в свою очень решил обратиться к несколько иным письменным практикам – ровесникам архива; а именно, он исследовал исламскую эпиграфику города Хивы в качестве своеобразного архива на открытом воздухе. Ульфат Абдурасулов, в свою очередь, стремится расширить границы местной письменной культуры посредством изучения дипломатических контактов, осуществлявшихся через Каспийское море, встроив, таким образом, Хиву в более широкую систему центрально-евразийской коннективности. Самой захватывающей стороной проекта было привлечение всех этих разных направлений исследований воедино и открытие того факта, что ханы Хивы, а также различные общины Хорезма, сумели развить на протяжении веков устойчивую культуру документации, несмотря на их кажущуюся удаленность друг от друга. Предметом особой гордости для меня выступает то обстоятельство, что во многом благодаря этому проекту, Управление по делам архивов Узбекистана (Агентство УзАрхив РУз) смогло добиться включения «Архива хивинских ханов» в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году.
Вы посвятили время изучению развития правовой мысли и практики среди мусульман Центральной Азии (и в Российской империи в целом). Не могли бы Вы немного рассказать о своей книге, посвященной шариату и культурным изменениям в Центральной Азии в колониальный период?
В моей книге «Visions of Justice: Sharīa and Cultural Change in Russian Central Asia -Проекция справедливости: шариат и культурные изменения в российской Центральной Азии» я рассматриваю проявления правового сознания в колониальный период. Рассуждая о правовом сознании, я опирался прежде всего на работы социологов права и антропологов, и моей главной задачей было проследить то, что люди делали и говорили о праве. Иными словами, проследить субъективность правовых акторов. При этом особый интерес для моего исследования представляли представления, бытовавшие среди мусульман Туркестана в период российского господства, о том, что является правильным и что нет.
Несмотря на то, что хронологический фокус моего исследования был направлен на процессы, происходившие в колониальный период, я также пытался рассматривать различные аспекты исламского правового поля в период, предшествовавший русскому завоеванию, углубляясь назад во времени вплоть до XVII столетия. Подобные упражнения были необходимы не только для того, чтобы выявить происходившие изменения, но и проследить преемственность (continuities) в правовой практике мусульман во времена заметных культурных преобразований, наблюдавшихся в царский период.
В этом отношении, архивы и хранящиеся в них записи однозначно указывают на следующие обстоятельства: обращение к российским властям и использование их правовых институтов было обычной практикой для туркестанцев. Важно также понимать, что в имеющихся в нашем распоряжении источниках ничто не свидетельствует о том, что местные мусульмане рассматривали использование ими российских судов как возможную капитуляцию перед колониализмом или считали это отклонением от некой священной нормы, предательством по отношению к своей исламской культуре. Это важно, потому что один из главных выводов этой книги состоит в том, что в XIX и начале XX века мусульмане Центральной Азии выработали подход к этике, основанный отнюдь не на эссенциалистском видении шариата. Хотелось бы в этой связи особо отметить, что, несмотря на то, что нормы морали во многом были основаны на шариате, мусульмане не воспринимали правовые инструменты шариата как нечто однозначно «священное» или «божественное». Важно иметь это в виду, в противном случае будет невозможным объяснить, почему именно мусульмане предпринимали определенные действия против целостности исламских институтов или против своих соотечественников.
Подобных примеров можно встретить великое множество. Некоторые жители Туркестана, например, стремились аннулировать статус мусульманских пожертвований (вакфов) с целью последующего расширения своих прав на этот вид собственности. При этом, их едва ли озадачивало то обстоятельство, что подобные инициативы могли приводить к обеднению тех (религиозных) учреждений (мечети, медресе и др.), в пользу которых и совершались подобные пожертвования. Другой распространенный пример – это попытки обхода норм мусульманского права о наследстве, с целью получения женщинами большей доли наследуемого имущества. Или неоднократные обвинения в невежестве и злоупотреблении полномочиями, выдвигаемые теми или иными лицами против казиев. И, наконец, нашедшая широкое распространение практика вовлечения людей в судебное разбирательство на основании ложных обвинений или свидетельств.
Сегодня мы слышим об увеличении религиозности и консервативных норм в Узбекистане. Некоторые мулл делали интересные заявления: например, критиковали певиц, которые, по их мнению, одеваются «нескромно», или призывали запретить деятельность гинекологов-мужчин. Заметили ли Вы явный рост консерватизма в Узбекистане во время Вашего последнего визита?
Во время моей поездки в Узбекистан весной этого года я имел возможность заметить, что у узбеков появилось гораздо больше возможностей публичного проявления своей религиозности и озвучивания идей, которые далеко не всегда могли соответствовать той интерпретацией ислама, которая продвигается государством. Например, на презентации моей книги «Проекции справедливости» в Ташкенте один из присутствовавших слушателей задал вопрос о возможности шариата стать источником права в Узбекистане в обозримом будущем. Мне сложно представить, что подобного рода вопрос мог бы прозвучать на открытом мероприятии в Ташкенте еще несколько лет назад, во времена президентства Ислама Каримова без серьезных последствий для человека, задавшего его.
Что бы мы ни думали в отношении этой комплексной темы, полагаю, что мы можем извлечь много полезного из множества и разнообразия мнений о религиозности и смысле мусульманства. Однако не думаю, что можно уверенно утверждать о возросшей религиозности узбеков в последние годы или же о росте их консервативности. Еще в годы моей аспирантуры, будучи в Самарканде в начале 2000-х годов, мне уже доводилось слышать различные истории о нежелании пользоваться услугами гинекологов-мужчин. Дискуссии об олицетворении благочестия и жизни мусульман в целом имеют долгую историю в Центральной Азии – они восходит по крайней мере к советскому периоду. В течение многих лет мне приходилось сталкиваться с различными мнениями о длине бороды или юбки, причем в самых разных социальных группах – как в городских, так и в сельских районах. Опять же, я склонен полагать, что такие представления о религиозности и формах благочестия в последнее время стали звучать громче, нежели в прошлом, однако это отнюдь не означает, что их не было ранее. Сегодня примечательным в Узбекистане является кибер-ислам, который на самом деле является глобальным явлением. Во время моего последнего визита я встречал людей, которые искали руководство и находили утешение в моделях исламской этики и источниках религиозной власти мусульман за пределами Узбекистана. Это должно подтолкнуть нас всех к более тщательному размышлению о степени устойчивости определенных институтов, которые призваны защитить секуляризм.
Вы изучали иранистику в университете Ca’ Foscari в Венеции. Прошлое города связано нитями с Востоком, особенно в период расцвета Венеции как морской и торговой державы. Каковы общие настроения и в целом состояние знаний о Центральной Азии в современной Италии? Тем более, что Италия стала первой страной G7, которая одобрила китайскую инициативу «Пояс и путь».
Да, действительно, мне довелось проходить обучение по специальности «иранистика» в Венеции, однако это происходило в рамках более широкой программы «евразийских исследований». В те дни было совершенно очевидно, что если кто-то интересуется персидской литературой, то ему необходимо изучать также и некоторые дополнительные языки и, более того, знакомиться с литературой на этих языках. Когда я стал проявлять интерес к персидскому, мне посоветовали изучать арабский, тюркские языки, а также изучать Россию и Кавказ. Это комплексное видение евразийской истории отражало эрудицию и космополитические чувства целого поколения ученых, которые верили, что единственным возможным подходом к истории Евразии является изучение того, что сегодня принято называть «взаимосвязанной историей» (connected history). При этом, ни один из моих учителей не был родом из Венеции и то, что они преподавали такие дисциплины как персидская литература, тюркология, славянская филология или арабская диалектология в университете Ca’ Foscari, имело мало общего с историей города и его прошлым как великой морской империи.
На самом деле востоковедение в Венеции – сравнительно недавняя «традиция», то есть это феномен ХХ-го века. И важно помнить, что, в конце концов, в Венецианской республике так и не была никогда открыта школа востоковедения, потому в ее распоряжении имелось достаточное число подданных, обладавших разнообразными языковыми навыками, на Балканах или в Константинополе, которые были способны оказывать услуги культурного посредничества. Конечно, нельзя отрицать давние отношения Венеции с Левантом, сефевидским Ираном и (почему бы и нет?) с Центральной Азией, но это совсем другая история. Однако, если мы вспоминаем Марко Поло, говоря о связях между Италией и Центральной Азией, тогда боюсь, что за несколько веков ситуация не сильно изменилась. Несмотря на то, что сейчас регион стал популярным туристическим направлением среди итальянцев, Центральная Азия остается местом скорее для погружения в экзотику, нежели для изучения. Неудивительно в этой связи, что прошлое и настоящее Шелкового пути с его комплексной историей, пока остаются малопонятными для широкой публики.