Мехмет Волкан Кашыкчы пишет диссертацию в области изучения советской истории в Университете штата Аризона. Его исследования посвящены социальной и культурной истории советского Казахстана в 1930-х и 1940-х годах. Работая над диссертацией, он прожил в Казахстане более двух лет.
Так как вы работаете над советским периодом Казахстана, что вы можете рассказать о советской политике в центральноазиатском регионе? Какие трудности виделись в ее реализации в регионе с культурным и языковым разнообразием, высоким влиянием религии и традиций? Как Советы собирались осуществить свою политику по созданию новой советской идентичности, свободной от религии и национализма?
Мои исследования не касаются 1920-х годов, но тем не менее у нас есть лучшее понимание раннего советского периода в Центральной Азии, чем в последующие десятилетия, благодаря работам других историков, особенно Адриенны Эдгар, Адиба Халида и Ботакоз Касымбековой. Но прежде всего, мы должны понимать, что Центральная Азия была не единственным регионом, «с культурным и языковым разнообразием и высоким влиянием религии и традиций», которым управляли большевики. Здесь я имею в виду не только этнически более сложный Северный Кавказ или культурно более «отсталую» Сибирь. Славянские крестьяне Центральной и Западной России, Украины или Белоруссии не слишком отличались в этом отношении. Одним из наиболее значительных событий в советской историографии за последние три десятилетия является признание того, что советский режим был прежде всего модернизирующей державой. Это был модернизирующий режим в Центральной Азии, как и на Украине или в России, что означает, что мы можем наблюдать параллельные события не только в других частях Советского Союза, но и в других частях мира.
В течение XIX и XX веков модернизирующиеся режимы во всем мире пытались трансформировать домодерные, «традиционные» социальные структуры. Процесс построения нации при советской власти был процессом гомогенизации и стандартизации, потому что современное управление и контроль были возможны только в рамках этого процесса стандартизации. В народном воображении обычно принято представлять этот процесс в Центральной Азии как уникально искусственный. Но национальное строительство никогда не является «естественным» процессом в любой части мира. Большевистский эксперимент в Центральной Азии не является уникальным ни в советском контексте, ни в глобальном контексте национального строительства. Ни один историк не смог объяснить влияние этого процесса на местах лучше, чем Кейт Браун[1]. Книга Браун рассказывает, как один конкретно взятый регион (советско-польская граница), в котором сплетались разные традиционные социальные структуры, религия, языки и этносы, превратился в однородную единицу. Другими словами, регион был совершенно разнородным, и эта неоднородность была препятствием для проекта модернизации советского режима. Следовательно, эта неоднородная социальная структура должна была быть разрушена, чтобы на ее месте создать современное государство и общество. Измерить, стандартизировать, гомогенизировать и вписать в современные парадигмы – такие цели были в центре этого проекта модернизации. Почему модернизирующие режимы стандартизируют и гомогенизируют социальные структуры? Потому что гетерогенные традиционные социальные группы не поддаются контролю. Следовательно, модернизация означает объединение общества под центральным управлением и превращение различающихся областей (регионов) в управляемые. Приграничные районы представляли особенную сложность для модернизационных проектов режимов, потому что были явно неоднородными и сложными. Такая же ситуация была в Европе[2]. Парадигма состояла в том, чтобы разрушить, чтобы управлять, – потому что то, что было традиционным, не было управляемым, следовательно, «примитивным» и «отсталым».
Таким образом, да, процесс национального строительства в Центральной Азии не был «естественным», но он нигде не был естественным. Нам нужно рассматривать опыт Центральной Азии в свете этой глобальной тенденции. Если мы теперь обратимся к Центральной Азии, то наиболее очевидная тенденция в историографии за последние два десятилетия заключается в фокусе на роли местных элит. В настоящее время в литературе очень хорошо установлено, что на протяжении 1920-х годов местные элиты (либо новые коммунисты, либо более авторитетные джадиды) оказали огромное влияние на реализацию советской политики. В частности, работы Адиба Халида ясно показали, что процесс государственного строительства и модернизация в Узбекистане имеют глубокие местные корни[3]. Я бы сказал, что сейчас это является доминирующей тенденцией в нашей области, и есть много других историков, спорящих о важности местных акторов. В настоящее время мы явно отказались от старой парадигмы, которая объясняла все волей Москвы и доминированием России над местными обществами. Однако я также частично критически отношусь к новой доминирующей тенденции в этой области, поскольку она отдает приоритет опыту культурной или политической элиты в ущерб более широких слоев общества. В моем собственном исследовании я утверждаю, что нам нужно выйти за рамки элиты и охватить опыт простых людей. Работы, в которых приоритет отдается роли центральноазиатских элит, показывают очень гармоничную и успешную картину советской модернизации и национального строительства в Центральной Азии; следовательно, история, которую они рассказывают, не сбалансирована. На мой взгляд, наиболее сбалансированным исследованием 1920-х годов в Центральной Азии по-прежнему остается посвященная Туркменистану работа «Tribal Nation (Племенная нация)» Адриенны Эдгар[4]. В этой работе Эдгар четко показывает, что туркменская культурная и политическая элита в городах активно принимала участие в советском проекте модернизации, в то время как сельские туркмены ему упорно сопротивлялись. Нам нужно больше подобных исследований, чтобы иметь сбалансированную картину о советской власти в Центральной Азии. Другой интересный пример работы, показывающей сложность этого процесса, спорного, обсуждаемого, продвигаемого и искажаемого в местном контексте – это книга «Despite Cultures (Несмотря на культуры)» Ботакоз Касымбековой[5].
Понятие «советский человек» не имело в виду, что этот человек не имеет национальности. Напротив, быть советским означало быть «национальным» в смысле принадлежности к однородному обществу.
Хотя создание «советского человека» было основным государственным нарративом, а националистический нарратив постоянно подвергался критике и людей сажали в тюрьму по обвинению в национализме, почему Советы поделили всю империю на национальные республики? В то же время новые национальные республики не отражали реальную географию народов, живущих в этом районе, а многие другие народы не так и не получили привилегию иметь собственную республику.
Начнем с того, что националистические амбиции подавлялись, когда набирали достаточную силу для того, чтобы бросить вызов советской власти. Но национальный (-истический) дискурс позволялся. Понятие «советский человек» не имело в виду, что этот человек не имеет национальности. Напротив, быть советским означало быть «национальным» в смысле принадлежности к однородному обществу. Большевики жили в мире, где национальная идентичность конструировалась и где национальное строительство воспринималось как прогрессивная сила. Они были преемниками десятилетий этнографических исследований царистского режима о народах Российской империи, и, как утверждала Франсин Гирш в своей книге[6], большевики были прилежными учениками накопленных знаний о народностях, и во многих случаях те же самые царские эксперты активно участвовали в процессах национального строительства и при советской власти. Были большевики, которые выступали против любого выражения национализма, однако, как показал Терри Мартин в своей знаменитой книге[7], в основном большевики приняли «нацию» как прогрессивную социальную категорию в эволюции человека. Следовательно, в отличие от представлений о Сталине времен холодной войны или о большевиках как «разрушителях наций», советский режим (всегда с участием местных элит) создавал или оказывал поддержку многим этнически определенным национальным идентичностям в мире. Почему большевики пошли по этому пути, – на этот вопрос ответить пока трудно, но я думаю, что почти все историки согласятся с тем, что для большевиков нация была необходимым шагом в общественной эволюции к социализму, а национальное строительство означало разрушение сложных традиционных социальных структур и построение стандартной и однородной социальной идентичности.
Что касается делимитации в Центральной Азии, утверждение о том, что новые национальные республики не отражают «реальную географию наций», является очень старым клише. Прежде всего, ни у одной нации в мире нет «настоящей географии». Центральная Азия в этом отношении не отличается. Во-вторых, это утверждение сопровождается другим утверждением о том, что советский режим (или большевики, или русские, или Сталин) определяли эти границы произвольно, без учета местных реалий. В своей статье Александр Моррисон назвал это клише «Гигантским карандашом Сталина», как если бы Сталин сидел в своей комнате и рисовал границы Центральной Азии на карте[8]. Этому клише сейчас нет места в научных дебатах, но, к сожалению, оно все еще доминирует в воображении людей. Тем не менее, как я уже говорил выше, сегодня совершенно очевидно, что местные элиты были активными участниками советской политики в течение 1920-х годов и, вероятно, делимитация, была сферой, в которую они наиболее активно были вовлечены. Книга Арне Хаугена[9] – самое подробное исследование этого процесса. Есть как минимум дюжина других историков, которые прямо или частично изучали делимитацию и объясняли ее логику. Этническая принадлежность была основным критерием при проведении границ, однако были и экономические, и политические соображения. Но чем сильнее или влиятельнее были элиты определенной национальности, тем более эта группа выигрывала за счет других групп. Границы Центральной Азии не являются естественными, так же как границы на Балканах, Ближнем Востоке или в Латинской Америке также не являются естественными. Тем не менее, эти границы не были установлены сверху вниз Москвой; сами центральноазиатские элиты активно участвовали в этом процессе. Что интересно, в Центральной Азии нет реальной критики делимитации как таковой. Критика «национального размежевания» ограничивается национальной обидой: казахи скажут, что Ташкент – это казахский город, узбеки – что Ош – узбекский город, таджики скажут, что Бухара – таджикский город. Однако это не критика самого проведения границ. Группы, не имевшие свои развитые «национальные» кадры, находились в невыгодном положении, однако, диссертация Бенджамина Лоринга о Кыргызстане[10] показала, что даже крестьяне на удивление быстро приняли дискурс о национальности и обосновали свои претензии этим дискурсом.
Как так получилось, что к концу Советского Союза разные страны имели разные уровни русификации по языку и культуре, хотя везде применялась одинаковая политика на одном и том же уровне?
Опять же, здесь следует осторожно подходить. Обычно существовала общая структура, но то, как она реализовывалась на местном уровне, существенно отличалось от страны к стране. Поэтому одна и та же политика не «внедрялась повсеместно на одном уровне». Книга Ботакоз Касымбековой, о которой я упоминал выше, является очень хорошим примером того, как политика осуществлялась на местном уровне. Грузины и армяне смогли сохранить свой алфавит, в то время как все другие национальности в конечном итоге адаптировали кириллицу. Группы, которых подозревали в том, что они могут стать пятой колонной иностранных держав, такие как турки-месхетинцы и крымские татары, подавлялись, в то время как Азербайджан и Узбекистан поощряли оказывать потенциальное влияние на родственные группы в соседнем Афганистане и Иране. Казанские татары определенно заслуживали иметь свою союзную республику в соответствии с логикой национальной политики, но их географическое положение определяло статус их государства. Даже казахи и кыргызы, две традиционно кочевые и тесно связанные друг с другом группы, имели очень разный опыт во время коллективизации. Никколо Пьянчола объясняет[11] эту разницу следствием советского экономического мышления, которое расположило Казахстан и Кыргызстан в разных экономических зонах.
Русификация – это тоже неопределенный термин. Прежде всего, как определить культурную русификацию? Некоторые из методов, которые приписывают русификации, применялись в рамках урбанизации и модернизации. Бесконечные дебаты в османской/турецкой истории – это история вестернизации. Модернизация означает вестернизацию или можно модернизироваться вне западной модели? Для турецкой модернизации моделью была Западная Европа, и неизбежная модернизация привела к вестернизации, хотя Турция не была колонизирована. И неудивительно, что в Центральной Азии русская культура представляла западную цивилизацию. В то же время у русских были свои отношения любви и ненависти с «Западом», как это было задокументировано многими историками – совсем недавно на эту тему писала Элеонора Гилбурд[12]. Если еще сложнее, то давайте вспомним, что в ту же эпоху европейцы беспокоились об американизации своей культуры[13]. Все эти процессы имеют много общего. Несомненно, сами жители Центральной Азии часто понимали этот процесс как русификацию, поскольку агентами модернизации обычно были русские и элементы «русской культуры». Я не имею в виду, что то, что называется русификацией, было просто модернизацией; скорее, я говорю, что многие практики, связанные с русификацией, имеют параллели в других частях света. Тем не менее, при советском режиме уровень принуждения и насилия, сопровождавший модернизацию, отличает Центральную Азию от таких примеров, как Турция. Многие жители Центральной Азии подражали русскому образу жизни, потому что он воспринимался как культурный и современный образ жизни. Русификация иногда используется взаимозаменяемо с советизацией, но это создает еще одну очень важную проблему.
На самом деле казахстанская трагедия была демографической.
Лингвистическую русификацию легче определить. Русский язык был языком общения в Советском Союзе, но официальной политики русификации никогда не было. Я иногда бываю в книжных магазинах в Алматы и почти не вижу казахских переводов иностранных книг. Тем не менее, в 30-х годах сотни мировых классиков были переведены на казахский язык. Однако на практике агентами лингвистической русификации выступали различные учреждения, местные органы власти и космополитические города.
Казахстан обычно считается самой русифицированной из всех республик Центральной Азии, и это правда, что лингвистическая русификация была самой сильной в Казахстане, даже где-то сильнее, чем в Украине. На самом деле казахстанская трагедия была демографической. После голода казахи стали меньшинством в Казахстане, и это была единственная союзная республика, в которой титульной национальностью было меньшинство. В результате депортации во время войны Казахстан стал весьма многонациональным обществом, в котором казахи в одно время составляли только 29 процентов. Лингвистическая русификация в Казахстане не была так очевидна в 1920-х или 1930-х годах. Но новые поколения позже выросли в полностью многонациональной среде. Многие мемуаристы ясно дают понять, что в детстве они начали говорить по-русски в 1940-х или 1950-х годах, потому что большинство их друзей в школе или в их районе были русскими, украинцами, чеченцами, евреями, поляками, немцами и так далее. Не только в Караганде, но и в южном Казахстане, в некоторых школах было очень мало казахских учеников. Некоторые мемуаристы из числа депортированных народов даже удивлялись тому, что, хотя они были в Казахстане, они редко общались с казахами. Обучение русскому языку стало обязательным для нерусских в 1938 году. Тем не менее, даже этот указ доказывает, что владение русским языком было настолько плохим после двух десятилетий советской власти, и из-за страха перед приближающейся войной советские власти много внимания уделяли обучению русскому языку как лингва франка для всего советского общества. На самом деле, довольно много среднеазиатских солдат погибло в самом начале войны, потому что они не могли понимать команд на русском языке. Однако впоследствии война стала поворотным пунктом для языковой русификации для всех советских республик. Среднеазиатские солдаты выучили русский язык на фронте и вернулись домой с этим культурным капиталом (знание русского языка). Владение русским языком стало обязательным условием участия в советском проекте. В Казахстане дальнейшее изменение демографической структуры связано с депортацией в военное время в сочетании с трансформирующим эффектом войны. Следовательно, только в 1940-х и 1950-х годах лингвистическая русификация начала оказывать реальное влияние. Казахи были русифицированы больше, чем другие, не потому, что другие были националистами, а казахи нет, а потому, что казахи пережили демографическую катастрофу и стали меньшинством в Казахстане.
Вы утверждаете, что национальный дискурс не был полностью подавлен, но где-то даже поощрялся или даже стимулировался, возможно, в соответствии с целями партии и с целью распространения советских идей. Существовала ли какая-то строгая политика, что разрешено, а что нет? Есть ли этому примеры?
Как я уже говорил, сейчас у нас есть более понятная картина 1920-х годов в Центральной Азии, но более поздние периоды изучены недостаточно. Кэтрин Дули написала замечательную диссертацию[14] о консьюмеризме и национальной культуре в Узбекистане и Кыргызстане с 1945 по 1985 год. На мой взгляд, это лучшая работа по национальной идентичности в Центральной Азии со времен «Племенной нации» Адриенны Эдгар, но она до сих пор неизвестна многим. В своей диссертации Дули рассказывает, как этнический партикуляризм, включая различные практики и «национальные» символы, был не только разрешен, но даже поддержан советскими властями как противоядие растущей потребительской (частично воспринимаемой как «капиталистической») культуре в послевоенную эпоху. Государственные учреждения в Центральной Азии производили набор местных «национальных товаров»: фарфор, одежду, ковры, украшения, различные украшения и так далее. Воспроизведение национальных (или, точнее, «национализированных») символов и практик определило многие аспекты повседневной жизни: от семейных отношений до гендерных ролей, от пищевых продуктов до дресс-кодов. Сами жители Центральной Азии все больше и больше ассоциируют узбекскость или кыргызскость с этими национальными символами и практикой. Это не означает, что это была доминирующая идеология или образ жизни, но она существовала наряду с часто более контрастирующим с более европейским современным взглядом.
Люди, которые утверждают, что советский режим подавлял национальные идентичности, обычно связывают то, что является «традиционным», с тем, что является «национальным», в то время как в действительности эти две категории редко пересекаются. Конечно, традиционные социальные структуры и культурные обычаи разрушались. Тем не менее, послевоенный период даже засвидетельствовал частичное возрождение культурных обычаев, которые подавлялись в течение 1920-х и 1930-х годов[15]. В эту эпоху возродились даже женские чадры.
Однако я хочу обратить внимание на формирование национальных дискурсов при советской власти (и это был процесс, шедший параллельно разрушению традиционных социальных структур). Такие ученые, как Дина Аманжолова, Сауле Есенова и Зифа Ауэзова, показали, как казахские кадры активно участвовали в формировании казахской национальной идентичности на протяжении 1920-х годов; во многих отношениях советский режим благоприятствовал более ранним националистическим проектам[16]. Но я думаю, что мы должны изучать более поздние периоды, чтобы понять непрерывное воспроизводство национальных дискурсов. В течение 1920-ых среди казахских интеллектуалов были радикалы, которые резко критиковали работы Абая и попытки сделать его национальным поэтом, потому что они видели в Абае буржуазного автора. Тем не менее, в 1930-е годы не было даже малой критики Абая (или Алтынсарина). Эти дореволюционные деятели были уже сильно интегрированы в казахский национальный дискурс. Что еще более важно, Харун Йылмаз рассказывает[17] о том, как марксистская история постепенно сдавала позиции в пользу романтических националистических повествований. Несмотря на подавление казахских националистов в 1930-х годах, этноцентрическое написание истории продолжалось, и казахские историки конструировали батыров в национальном нарративе. Это происходило параллельно с общесоюзным акцентом на российскую идентичность. Батыры превратились из малоизвестных местных фигур в национальных героев. Народные рассказы собирались из разных регионов, кодифицировались и гомогенизировались в общенациональном масштабе. Вторая мировая война была еще более важной для воспроизводства национального дискурса. Роберто Кармак в своей недавней книге[18] изучал военную пропаганду о казахском национальном дискурсе и о том, как этот дискурс осваивался казахскими солдатами. На самом деле, письма солдат военных лет, мемуары, написанные после войны, или газетные статьи, опубликованные как во время, так и после войны, являются националистическими. Казахстанские солдаты, почти без исключения, осмысливали войну с чрезвычайно эссенциалистским и исконным национальным нарративом. И дело все не в пропаганде. Сами казахские солдаты были очень активны в формировании своего нарратива. Малик Габдуллин – очень хороший пример. Он постоянно пропагандировал за исконное и героическое казахское национальное повествование. Даже Баубек Булкышев, самый космополитичный и романтично настроенный из всех казахских солдат, разделял этот крайне эссенциалистский национальный нарратив. Тем не менее, надо подчеркнуть, что этот национальный нарратив никогда не был антисоветским. Советский патриотизм и романтические национальные дискурсы шли рука об руку. В какой-то момент Малик Габдуллин был раскритикован некоторыми людьми как националист, и в своем дневнике он написал, что счастлив, что его называют националистом. Он постоянно писал казахским писателям и ученым и критиковал их, потому что, по его мнению, они не могли реально использовать героическую традицию казахской нации. Габдуллин был настоящим советским патриотом и героем Советского Союза. Но в то же время Революция ничего не значила для него. Он был одержим казахским героизмом в чрезвычайно примордиальном смысле. В некоторых отношениях он был более радикальным националистом, чем члены Алаша. Члены Алаша были казахскими националистами, но они также очень критиковали казахское общество и культуру. Габдуллин никогда не критиковал что-либо казахское, вместо этого он критиковал людей, которые высказывали какие-либо негативные комментарии по любому аспекту казахской культуры или истории. Что более интересно, Габдуллин не находился ни в маргинальном положении в советском обществе, ни протестовал против советского режима. После войны он занимался воспитанием молодежи и проводил бесчисленные «семинары». Ему даже был предоставлен личный рейс из Караганды в Алматы. Когда он умер, его именем в том же году была названа улица. Габдуллин – исключительная фигура, но в то же время его случай также показывает, как изменились представления о том, что значит быть советским после войны. С тех пор такой национальный нарратив полностью гармонировал с советским патриотизмом. Почти все солдаты разделяли то же самое повествование, хотя и менее радикально, чем Габдуллин. Казахские газеты были полны статей о казахских батырах и даже ханах. Я не говорю, что этот примордиальный казахский национальный дискурс был повсеместным, он сосуществовал и никогда не оспаривал другие дискурсы, такие как советский патриотизм, дружба народов и так далее. Тем не менее, он воспроизводился непрерывно и не подавлялся. Конечно, некоторые повествования воспринимались как антисоветские и подвергались критике. Историк Бекмаханов был даже уволен и арестован за свою работу о Кенесары Касымове.
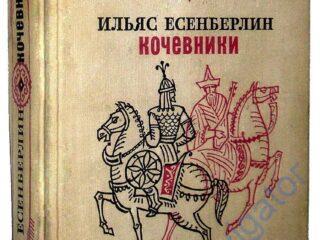
Говоря о советских казахах, конечно, главный нарратив состоял в том, что казахи, как и все другие народы, веками находились под гнетом богатых баев и ханов и были освобождены Советами. Но чтобы показать некоторую исключительность наций, тех же казахов, или их богатую историю и культуру, использовалось что-нибудь из их предсоветской истории – например, показывалось ли кочевничество с положительной стороны и как источник гордости?

Основная предпосылка национализма – это идея о том, что мир разделен на нации, и каждый человек принадлежит к нации и только к одной нации
Следите ли вы за нынешним националистическим нарративом в регионе и какие основные изменения вы отмечаете с советских времен, хотя в большинстве республик во власти остается в основном та же советская номенклатура?
В моей недавней статье для научного журнала «Europe-Asia Studies» [22] я в основном утверждаю, что постсоветский национальный дискурс в Казахстане ни в коем случае не является разрывом, это продолжение советских дискурсов. Как я уже объяснил, очень эссенциалистские и примордиальные национальные дискурсы получили развитие в советское время. Некоторые ученые фокусируются на различиях между различными политическими группами в Казахстане. Они называют некоторых из них «националистами» или «национал-патриотами» и подчеркивают их отличия от официальной позиции. Тем не менее, я думаю и утверждаю, что и «националисты», и концепция режима о казахской идентичности сформированы одним и тем же весьма эссенциальным национальным дискурсом. Чтобы объяснить это, я заимствовал мета-повествование или авторитарный дискурс Кэтрин Вердери. На мой взгляд, почти у всех в Центральной Азии есть националистическое мышление. Существует множество различных определений национализма, но основная предпосылка национализма – не о том, что надо любить свою нацию и ненавидеть «врагов». Основная предпосылка национализма – это идея о том, что мир разделен на нации, и каждый человек принадлежит к нации и только к одной нации (а в Центральной Азии нация всегда определяется этнически). Я прожил в Казахстане почти три года, и я бы сказал, что это основное предположение о национализме широко распространено. В Центральной Азии национальность имеют не только люди, но даже предметы. В оригинальной статье 1994 года[23] Юрий Слезкин утверждал, что большевики создали нации, потому что они были подлинными националистами; их мировоззрение было сформировано тем, что Слезкин назвал «хронической этнофилией». Не все, включая меня, согласятся со Слезкиным в этом. Тем не менее, я думаю, что «хроническая этнофилия» превратилась в доминирующую в советском мышлении в течение десятилетий. Некоторые ученые считают, что Казахстан находится на пути формирования «гражданской» идентичности. Однако они обычно автоматически приравнивают мультикультурализм к «гражданскому» национализму, который на самом деле не актуален в Центральной Азии. Центральная Азия, и особенно Казахстан, это мультикультурные общества, но повседневная жизнь здесь чрезвычайно этническая. Тем не менее, это не означает, что в этом регионе господствуют этнические проблемы. «Хроническая этнофилия» не обязательно означает насилие или этническую ненависть[24]. С одной стороны, она поддерживает многоэтническое и многокультурное общество в отличие от ассимиляционных национальных государств в разных частях мира. Тем не менее, с другой стороны, она позволяет превращать все в вопрос национальной чести. Я не думаю, что это доминирующее мировоззрение скоро изменится в регионе. Действительно, казахи, как правило, очень открыты для других культур (тем не менее, они снова понимают другие культуры в этно-национальных терминах), и многие по-прежнему равнодушны к тому, что понимается за «казахскую культуру». Когда казахскость определяется такими строго примордиальными способами, то этот национальный дискурс мало что может предложить для современного мира. Сильный эссенциализм казахского национального дискурса становится слабостью казахского национализма в повседневной жизни.
[1] Kate Brown, A Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Soviet Heartland, (Harvard University Press, 2009).
[2] См., например: Tara Zahra, Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948, (Cornell University Press, 2011).
[3] Adeeb Khalid, Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the early USSR, (Cornell University Press, 2015).
[4] Adrienne Lynn Edgar, Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan, (Princeton University Press, 2004).
[5] Botakoz Kassymbekova, Despite Cultures: Early Soviet Rule in Tajikistan, (University of Pittsburgh Press, 2016).
[6] Francine Hirsch, Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union, (Cornell University Press, 2005).
[7] Terry Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, (Cornell University Press, 2001).
[8] Alexander Morrison, “Stalin’s Giant Pencil: Debunking a Myth About Central Asia’s Borders”, Eurasianet, February 13, 2017.
[9] Arne Haugen, The Establishment of National Republics in Central Asia, (Palgrave Macmillan, 2004).
[10] Benjamin Loring, “Building Socialism in Kyrgyzstan: Nation-Making, Rural Development, and Social Changes, 1921-1932”, (Unpublished Ph. D. Dissertation, Brandeis University, 2008).
[11] Niccolo Pianciola, “Stalinist Spatial Hierarchies: Placing the Kazakhs and Kyrgyz in Soviet Economic Regionalization”, Central Asian Survey, 35 (4), 2016.
[12] Eleonory Gilburd, To See Paris and Die: The Soviet Lives of Western Culture, (Harvard University Press, 2018).
[13] For example, see: Victoria de Grazia, Irresistible Empire: America’s Advance through Twentieth-Century Europe, (Harvard University Press, 2006).
[14] Kathryn Dooley, “Consumer Culture, Ethnicity, and Self-Fashioning in Postwar Soviet Central Asia”, (Unpublished Ph. D. Dissertation, Harvard University, 2016).
[15] For example, see Paul Stronski, Tashkent: Forging a Soviet City, 1930-1966, (University of Pittsburgh Press, 2010).
[16] Dina Amanzholova, “Kazakhskaia Avtonomiia: Ot Zamysla Natsionalov k Samoopredeleniiu Po-Sovetski”, Acta Slavica Iaponica, 21, 2004; Saule Yessenova, “Soviet Nationality, Identity and Ethnicity in Central Asia: Historic Narratives and Kazakh Ethnic Identity”, Journal of Muslim Minority Affairs, 22 (1), 2002; Zifa-Alua Auezova, “Conceiving a People’s History: The 1920-36 Discourse on the Kazakh Past” in Michael Kemper and Stephen Conermann ed. The Heritage of Soviet Oriental Studies (London: Routledge, 2011).
[17] Harun Yılmaz, National Identities in Soviet Historiography: The Rise of Nations under Stalin, (Routledge, 2015).
[18] Roberto Carmack, Kazakhstan in World War II: Mobilization and Ethnicity in the Soviet Empire, (University Press of Kansas, 2019).
[19] Alfrid K. Bustanov, Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations, (Routledge, 2014).
[20] Амангельды Аманжолов, “Ілияс Есенберлиннің балалық шағы”, https://e-history.kz/kz/publications/view/4824?fbclid=IwAR1YI31vITH8WzrpPMyqoXEGAnsrO79FX1Avj3Y9L5vfxAt2zcAlZnBF5Ps
[21] Paula Michaels, Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia, (University of Pittsburgh Press, 2003).
[22] Mehmet Volkan Kasikci, “The Soviet and the Post-Soviet: Street Names and National Discourse in Almaty”, Europe-Asia Studies, 71 (8), 2019.
[23] Yuri Slezkine, “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism”, Slavic Review, 53 (2), 1994.
[24] Что такое хроническая этнофилия? Позвольте мне привести недавний и забавный пример. Один из моих ближайших друзей – карачаевец из Турции. Несколько месяцев назад он рассказал мне, что его отец смотрел документальный фильм о том, как карачаевцы режут овец (снято в Карачаево-Черкесской Республике). Сколько способов есть зарезать овцу? Насколько он может быть национальным? Тем не менее, весь фильм посвящено тому, что есть особенный карачаевский способ убоя. Это действительно очень хорошо резонирует в Центральной Азии. Одержимость национальными особенностями сосуществует с многокультурным образом жизни.
Фото: Gtw/imageBROKER/REX/Shutterstock (9423715a)
Two men on horseback in front of the entrance to the Kazakh ethnographic village aul Gunny, Talgar, Almaty, Kazakhstan















