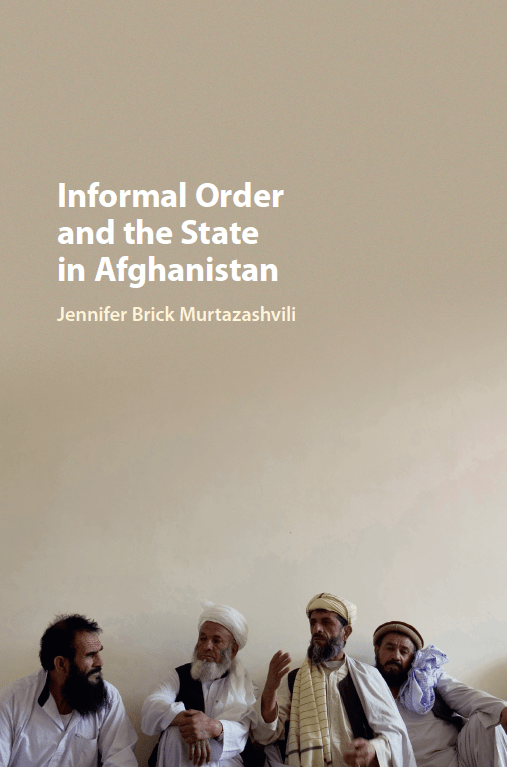Дженнифер Муртазашвили, директор Программы международного развития Школы общественных и международных отношений Питсбургского университета
Доктор Дженнифер Муртазашвили изучает управление, политическую экономию, безопасность и развитие в Центральной и Южной Азии и в бывшем Советском Союзе. Её книга “Неформальный порядок и государство в Афганистане” («Informal Order and the State in Afghanistan») была опубликована в 2016 году издательством Кембриджского университета. В 2018 году эта работа удостоилась награды как лучшая книга в социальных исследованиях Обществом изучения Центральной Евразии (Сentral Eurasian Studies Society). Годом ранее лестную характеристику ей дал и Отдел глобального развития Ассоциации Международных Исследований (International Studies Association).
Расскажите, пожалуйста, как Вы начали изучать Центральную Азию и почему она заинтересовала Вас в то время, когда никто не хотел туда ехать?
Мой интерес к Центральной Азии начался во время моей учёбы в Джорджтаунском университете. Для того, чтобы завершить программу Дипломатической Службы (Foreign Service), на которой я обучалась, нужно было в совершенстве владеть иностранным языком и сдать экзамен устно. Я решила изучать русский язык. Было трудно, и я даже переживала, что не смогу закончить школу, не сдав экзамен по языку. Поэтому я провела семестр своего первого курса в Москве, занимаясь русским языком и политикой страны. Это был 1995 год. В то время в Чечне началась война. Я узнала о ней в Москве и мне было стыдно, потому что я никогда не слышала о Чечне во время изучения языка и истории России в Джорджтауне. В те дни исследуя постсоветскую политику, мы уделяли большое внимание культуре России. Так, я узнала многое о Екатерине Великой, Иване Грозном и Киевской Руси, но почти ничего о Центральной Азии или Кавказе.
После того, как я вернулась в США, я нашла профессоров, которые помогли мне дальше исследовать эти нерусские группы населения. Один профессор антропологии посоветовал мне обратить внимание на мусульманское население бывшего Советского Союза. Я заинтересовалась Центральной Азией и начала изучать турецкий язык, так как в то время в Вашингтоне не преподавался ни один из языков самого региона. В те времена мы не могли найти много информации о Центральной Азии на английском языке.
Один из моих наставников в университетскую пору, Герберт Гов (Herbert Howe), посоветовал мне присоединиться к Корпусу Мира после окончания университета. Сам он служил волонтером Корпуса мира в Нигерии. Когда я прошла через конкурс, мне сказали, что ввиду моего владения русским (я наконец-то на нём могла говорить!), я могла работать в любой бывшей советской республике, где был их офис. Организация предлагала мне Прибалтику, Россию, Украину и даже Польшу. Я спросила у них, было ли что-нибудь в Центральной Азии. Они сказали, что «да», предупредив, что туда никто не хочет ехать. Так я и сделала свой выбор поехать в Узбекистан.
В качестве волонтера Корпуса мира мне удалось пожить в самом волшебном месте мира: в Самарканде. Я выучила узбекский и таджикский языки. После этого мне предложили работу в USAID в Ташкенте, где я проработала еще три года. Итак, я прибыла в Узбекистан в 1997 году, а затем жила там ещё пять лет до 2002 года, когда я вернулась в США для аспирантуры. Я намеревалась писать свою докторскую диссертацию в Узбекистане, но после андижанских событий 2005 года я не смогла получить исследовательскую визу. Я занималась Афганистаном в последние пятнадцать лет, потому что не могла проводить исследования в Узбекистане. Таджикский язык, который я выучила в Самарканде, помог мне овладеть фарси в аспирантуре.
Как Запад видит Центральную Азию? Какова обычная точка зрения (или нарратив) о регионе и его странах? В своей учебной программе Вы писали о «вертолётных журналистах» (helicopter journalists), пишущих о Центральной Азии. Можете рассказать об этом?
Честно говоря, я не уверена в том, что Запад рассматривает Центральную Азию так, как следовало бы. Большинство мнений об этом регионе складывается из странного сочетания представлений о Борате и Талибане. Не думаю, что многие в США понимают, где находится Центральная Азия или что там происходит. Многие стереотипы не идут далее пределов Афганистана. Те, кто понимают регион, видят его почти исключительно через политическую или религиозную призму. Это означает, что они видят религиозный экстремизм или авторитаризм либо и то, и другое.
В своей работе я стараюсь привлечь внимание людей к проблемам и возможностям сообществ, именно тем невероятным возможностям, которыми располагают индивиды в этих сообществах, чтобы влиять на изменения. Я хотела бы, чтобы история сообществ была открыта остальному миру. На мой взгляд, одно из величайших достоинств региона Центральной Азии заключается в способности групп людей объединяться и решать вопросы, представляющие коллективный интерес. Я сама наблюдала такою жизнь в махалле в Самарканде, работая в USAID по проектам развития общины и местного самоуправления. Я многократно убеждалась в правоте этого утверждения во время полевых исследований в Афганистане, посвящённых вопросам местного самоуправления. Жизнь сообществ является величайшим достоянием региона.
Моя первая поездка в Афганистан состоялась в 2005 году. Я так много читала об изменениях, происходящих там на уровне общин, что я подумала о важности сравнения динамики сообществ Афганистана с бывшими советскими республиками Центральной Азии. Поэтому мое исследование было сконцентрировано на таких вещах, как лидеры общин, «аксакалы» и махалля. То было совсем другое время. Мы с большим оптимизмом смотрели на мирные перспективы Афганистана. Мне удалось также провести обзорную работу по этому вопросу в Таджикистане.
На мою работу очень повлияла Элинор Остром (Elinor Ostrom), которая получила Нобелевскую премию по экономике в 2009 году. Она единственная женщина, которая удостоилась этой чести. Как и я, она политолог. Хотя политическая наука в большей части фокусируется на государстве, его сильных и слабых сторонах, подход Остром сконцентрирован на сообществах и их способностях решать проблемы. Это очень оптимистичный подход к миру, который применим к общинам как в США, так и в Узбекистане.
Почему термин «постсоветский» все еще в значительной степени применяется к Центральной Азии? Прошло 28 лет с момента окончания советской эпохи. Есть ли точка отчёта, с которой мы должны бы перейти на другой термин, или же это связано с тем, как правительства развиваются и управляют, т.е осуществляют это все, еще в «советском» или «постсоветском» стиле?
Большую часть своей карьеры я посвятила попыткам устранить гегемонистский постсоветский подход к изучению Центральной Азии. В американских университетах Центральная Азия почти всегда изучается как часть российских и восточноевропейских исследований. Она редко изучается как часть других регионов. Для меня это во многом пережиток того, как большинство западных ученых были обучены в их подходе к региону. Поскольку Центральная Азия была частью Советского Союза, мы узнали о ней во время постсоветских исследований. Мы учили русский язык, а затем изучали регион. Это стало странно удобным положением для большинства ученых. Многие не особенно стремятся отделить регион от его советского наследия. Это относится как к научной элите в Центральной Азии, так и к учёным за ее пределами. Это мешает нам увидеть сходство между Южной Азией и Центральной Азией, а также между Ираном, Синьцзянем и другими районами.
В моём понимании такой подход уже изжил свою полезность. Целое поколение выросло уже в совсем другой среде. Человек, которому сейчас 30 лет, не помнит Советского Союза. Есть моменты, когда это наследие очень важно: например, политическое, юридическое или экономическое наследие. Но факт, что это наследие все еще определяет регион тридцать лет спустя, не позволяет видению региона развиваться так, как следует. Это означает, что ученые рассматривают Центральную Азию через призму прошлого.
Сейчас я работаю над проектом книги, которая исследует советское бюрократическое наследие в Афганистане (вместе с Мохаммадом Кадамшахом). Мы показываем, как советское институциональное наследие подорвало процесс государственного строительства в Афганистане. Вместо того, чтобы реформировать политическую систему, международное сообщество доноров попыталось укрепить старое централизованное государство, существовавшее до талибов и построенное на прочной советской основе. Таким образом, в сферах, начиная от государственных финансов до организации полиции и разработки местных структур управления, очевидно влияние Советского Союза. Как ни странно, усилия по государственному строительству стремились укрепить эти дисфункциональные системы, которые не имели пользы для афганских граждан.
После 2001 года в стране возникла спешная потребность в построении государства. Она была столь срочной, что природе создаваемых учреждений было уделено совсем мало внимания. Мы утверждаем, что система неустойчива, потому что люди сыты по горло коррупцией в правительстве. А коррупция возникает из-за очень централизованных советских институтов, существующих в стране. С 2001 года реформы этих учреждений практически не проводились. Например, все государственные чиновники на локальном уровне продолжают назначаться в столице. Система государственных финансов настолько сильно централизована, что означает, что общины не имеют права голоса в определении своего местного бюджета. Это означает, что разрыв между правилами де-юре и де-факто довольно велик и в этом заключается самое большое препятствие для развития. Без изменения этой институциональной динамики, мы будем и дальше видеть проблемы в стране, потому что её общины не имеют права голоса в самоуправлении.
Мы слышали о вечных спорах о совместимости ислама и демократии и о сочетании традиционных форм управления с демократией. Каковы наиболее распространенные стереотипы об исламе или о традиционных обществах существуют в СМИ или науке? Вы можете рассказать нам о выводах Вашей книги об Афганистане?
Моя работа по Афганистану показывает невероятную способность сообществ организовываться и предоставлять общественные блага, в то время, когда государство не желает или не может этого сделать. Сообщества предоставляют гражданам оплот защиты от государственного хищничества. Удивительным итогом последних 20 лет в Афганистане является возрождение традиционной власти. На самом деле вера в такие институты, как шуры или местные малики, арбабы, аксакалы постепенно укреплялась по мере продолжения усилий по государственному строительству. Для меня это была необычная головоломка.
Запад часто может считать традиционных лидеров и талибов за одну категорию, но, как мы знаем из исследований, лидеры общин Центральной Азии, как аксакалы, не всегда опираются на религиозную основу легитимности. Легитимность этих лидеров исходит из обычаев (урф/адат). Традиция со временем меняется и меняются источники легитимности этих лидеров.
Я также обнаружила, что многие ученые и журналисты склонны не доверять обычным традиционным лидерам, противопоставляя их демократическим институтам или чаще государству. В большинстве стран мира (в том числе и в США) существует тенденция смотреть свысока на людей в сельской местности. В Америке люди обычно называют эти места “fly-over country” («край, над которым пролетаешь мимо»). Большинство людей считает, что традиционные структуры это пережитки, которые необходимо устранить для обеспечения равенства полов, демократии и множества других инноваций.
Насколько нам известно, Вы также пишете книгу о политических и экономических реформах в Узбекистане. Как вы относитесь к изменениям в этой стране? Будут ли они ограничиваться только экономическими реформами? Есть ли надежда на свободу слова и, возможно, политические перемены? Ощущается некоторый конфликт в некоторых процессах, таких как снос домов, например. Некоторые комментаторы узбекского сегмента Facebook описывают процесс как «один шаг вперед, два шага назад».
Реформы в Узбекистане являются важным шагом вперед. Я остаюсь очень оптимистичной. Хотя некоторые и говорят, что «это один шаг вперед, два шага назад», это неправильно. Страна делает значительные успехи во многих областях. Происходит ли этот прогресс так же быстро, как хотелось бы многим? Нет. Но для некоторых это происходит слишком быстро. Безусловно, есть изменения и прогресс происходит. Честно говоря, мы не знаем, куда страна движется. В отличие от прошлого, я не думаю, что здесь есть какой-то грандиозный замысел или какое-то видение, вынашиваемое президентом или другими. Из моего общения и интервью с чиновниками я чувствую, что люди двигаются наощупь: пытаются выяснить, что сработает, и посмотреть, как далеко они могут пойти. Мы видим, что прямо сейчас и между министерствами возникает много напряженности, что естественно и позитивно.
Моя книга об Узбекистане посвящена политическим, экономическим и социальным реформам. Сейчас я нахожусь на самой ранней стадии этой работы. Я смотрю на реформы в широком спектре отраслей. В частности, меня интересуют реформы управления, реформа экономических институтов, в особенности прав собственности.
Вопрос «сноса» или отъёма земли сейчас занимает центральное место в процессе реформ. Проблемы сноса домов подчеркивают фундаментальное напряжение в реформах. С одной стороны, страна сталкивается с острой нехваткой жилья из-за растущего населения. Ослабление системы прописки и сокращение правительственных контрольно-пропускных пунктов повсеместно облегчают гражданам внутреннюю миграцию. С другой, граждане очень подозрительно относятся к привилегиям государственных чиновников и некоторых инвесторов, которые те извлекают из этого процесса. В то время как страна просит граждан довериться реформам, есть и скандальное поведение со стороны местных чиновников. Люди верят в то, что их местные чиновники ведут себя так, потому что правительство в Ташкенте разрешает им или поощряет это. Население судит о ситуации по действиям своих лидеров, а не по их словам.
Президент Шавкат Мирзиёев при осмотре двух столичных махалля в Чиланзарском районе. Nur.uz
Я также работаю над проблемой сносов в Китае. В недавнем рабочем документе мы обнаружили, что с точки зрения удовлетворенности граждан, справедливое отношение правительства имеет такое же важное значение, как и уровень компенсации. В Китае снос – очень и очень спорная проблема, которая вызвала волнения и протесты по всей стране. Это затронуло много людей. Во многих отношениях ситуация в Узбекистане очень похожа на ситуацию в Китае, за исключением того, что стоимость земли в Китае намного выше, потому что уровень инвестиций там более значительный. Другими словами, размер экономического пирога в Китае намного больше. Я надеюсь провести обзорное исследование в Узбекистане на эту тему в ближайшие месяцы. Существует реальная необходимость понять масштаб проблемы. В настоящее время у нас просто нет достаточно хорошей информации, на основе которой можно было бы выстраивать хорошую государственную политику.
Рост религиозности людей в Узбекистане очевиден. Под этим подразумеваются исполнение молитв, соблюдение постов и иногда многоженство. То же самое относится и к Кыргызстану, где даже предсказывается и опасность распространения радикального ислама. Некоторые имеют опасения по поводу того, что религия начала играть большую роль, в то время как другие не видят в этом ничего плохого. Должна ли здесь быть причина для беспокойства?
Люди уже давно говорят о том, что Узбекистан становится более религиозным. Честно говоря, мы не знаем многого об уровне религиозности, потому что у нас просто нет хороших данных об этом. Двадцать лет назад писались книги – такие, как «Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia (Джихад: восстание воинствующего ислама в Центральной Азии)» Ахмеда Рашида или «Сalming the Ferghana Valley: Development and Dialogue in the Heart of Central Asia (Усмирение Ферганской долины)» Барнетта Рубина и др. Многое в этих работах преувеличивалось.
Но поскольку доступ к информации в то время был очень сложным процессом, ученые предполагали худшее. Сегодня информационная проблема стоит не так остро, как раньше, но чтобы понять, что происходит, важно проводить независимые научные исследования. Я не могу судить об ухудшении или улучшении ситуации, пока у меня нет данных. К сожалению, в Узбекистане до сих пор нет независимых данных, позволяющих нам оценить ситуацию. Люди будут продолжать делать драматические выводы, потому что у них есть только неподтвержденные доказательства, на которые они могут опираться.
Вышеупомянутые книги писались в рамках точки зрения, которая рассматривала рост религии в качестве угрозы, а не как источника стабильности. В некоторых случаях мы видим, что растущая религиозность появляется как ответ на глубокое отчуждение от государства. Отчуждение не обязательно означает, что люди обратятся к насилию. Насилие происходит очень редко.
Рост религиозности не должен нас сильно беспокоить, пока государства адекватно реагируют на эту растущую религиозность. Усилия по подавлению религии ведут к насилию. Риски возникнут, если иностранные государства начнут использовать религию в качестве инструмента для влияния на группы и сообщества. Это причина печальной истории Афганистана в последние тридцать лет.
В Кыргызстане религиозные группы, по-видимому, появляются по нескольким причинам. Основная причина в том, что государственная коррупция сильно распространена во всех сферах жизни общества. В какой-то момент индивиды и сообщества отчуждаются от государства и обращаются к другим источникам за определенными услугами. В этом есть много положительных сторон – об этом рассказывает малоизвестная история религиозного гражданского общества в Кыргызстане. За последние двадцать пять лет Соединенные Штаты и другие страны вложили значительные средства в поддержку прозападных или демократических организаций гражданского общества. Но эти организации, поддерживаемые Западом, никогда не пользовались такой поддержкой на местах и снизу, как некоторые религиозные организации Кыргызстана, которые играют важную роль в поддержке сообществ, помогая адаптироваться и справляться с такими проблемами, как миграция и ее влияние на семью. Эти организации имеют массовую популярность, чего всегда не хватало НПО, поддерживаемых Западом.
Ситуация в Узбекистане сильно отличается от ситуации в Кыргызстане. Во-первых, Узбекистан никогда не позволял иностранной религиозной организации работать в том виде, как это происходило в Кыргызстане. Во-вторых, государство в Узбекистане всегда было сильным. Это не означает, что оно всегда было эффективным, но оно было вездесущим практически во всех сферах жизни общества – от махаллей до школ и даже в организации хашар (субботников). Сейчас самым значительным изменением, которое мы наблюдаем в узбекском обществе, является уход государства из всех сторон общества. Это даст возможность для большей гражданской активности и для возникновения и развития других видов организаций. Мы не должны рассматривать религию как угрозу.
Было очень интересно наблюдать за изменением отношения правительства президента Мирзиёева к устоявшейся религии. Сегодня мы слышим призыв к молитве в Ташкенте и других городах, чего мы не слышали уже много лет. Вы видите людей, более охотно демонстрирующих свою религиозную принадлежность. Но в некоторых случаях я заметила и сокращение религиозной одежды.
Суть в том, что без доступа к надежным данным опросов или расширенной этнографической работы, будет трудно сделать выводы о тенденциях в Узбекистане. Мы будем продолжать видеть преувеличения, пока нет доступа к информации. Как академик, я опираюсь на данные. Я все время размышляю над своей позицией по некоторым вопросам, и когда у меня есть доказательства, делаю переоценку и принимаю, что была неправа. Так что я с нетерпением жду того дня, когда узнаю, что все, что я здесь сказала, было неверным!
Главное фото: Maxim Shipenkov/EPA/REX/Shutterstock (7629999c) Kyrgyz People Eat at the Bazaar in the Town of Uzgen in Southern Kyrgyzstan 11 April 2010 Kyrgyzstan Uzgen Kyrgyzstan Economy Bazaar – Apr 2010