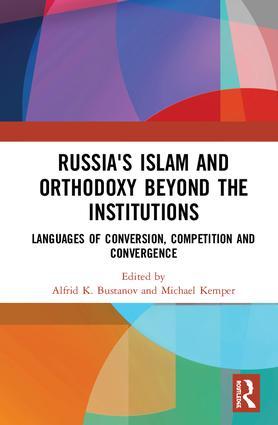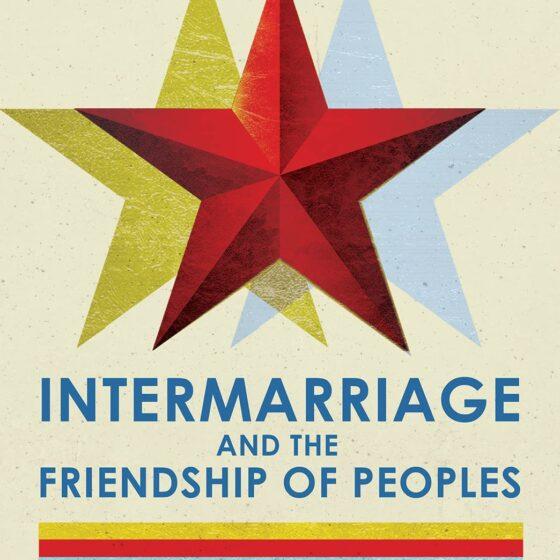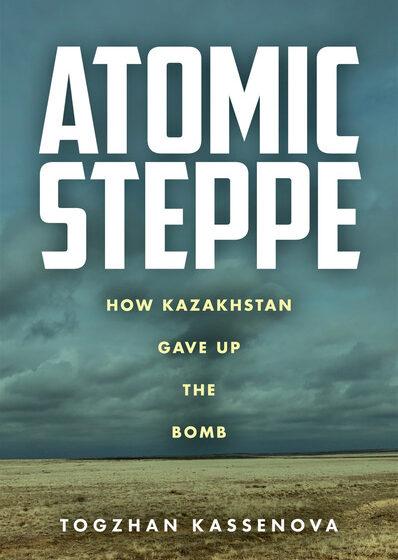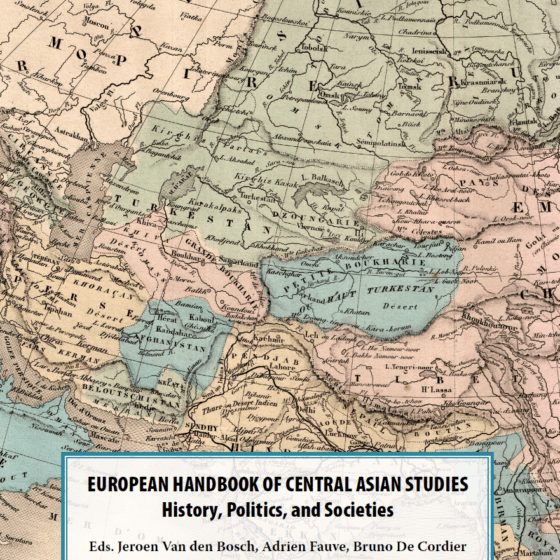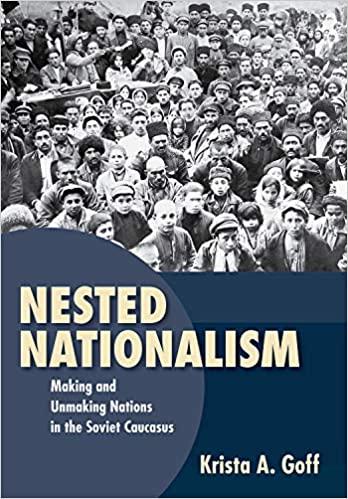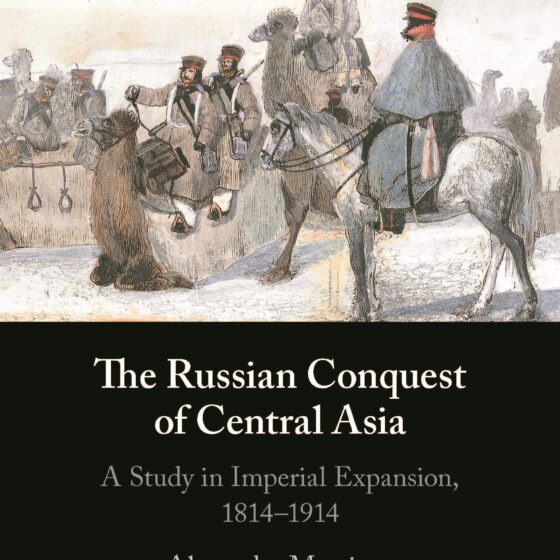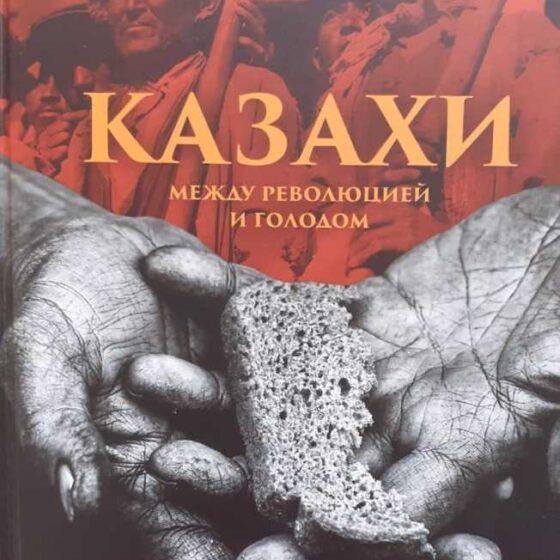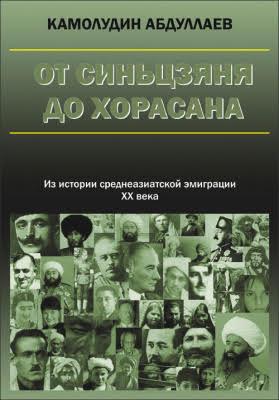Ислам и Православие в России: за границами институциональной системы. Под редакцией Альфрида Бустанова и Майкла Кемпера
(Russia’s Islam and Orthodoxy beyond the Institutions. Languages of Conversion, Competition and Convergence. Edited by Alfrid K. Bustanov and Michael Kemper. Routledge, 2018)
Обзор книги
Этот небольшой сборник содержит пять статей об исламе в бывшем СССР. Тот факт, что сами авторы являются выходцами из Советского Союза, дает им возможность увидеть феномен изнутри; они отличают то, что может остаться незамеченным для стороннего наблюдателя. Название сборника в некотором смысле вводит в заблуждение. На самом деле, представленные работы не рассматривают ислам и православие исключительно вне государственных институтов. Предмет исследователей гораздо шире и фокусируется на взаимодействии государства, ислама и православия. По крайней мере, это видно в двух первых статьях. Другие статьи посвящены исламу как особой революционной силе в контексте постсоветской истории.
«Национализм и религия в дискурсе “критических экспертов ислама” в России» (“Nationalism and Religion in the Discourse of Russia’s ‘Critical Experts of Islam’”) Кристины Ковальской посвящена взаимодействию между исламом и государством. Статья повествует о глубоких изменениях, произошедших в отношениях между российским государством и исламом в последние годы. В начале постсоветского периода власти и некоторые слои российской интеллигенции разыгрывали карту неоевразийства, своеобразного неосоветизма в его практическом политическом приложении, который для своих сторонников представлял гармоничный симбиоз православия и ислама. В этом контексте ислам играет ту же роль, что и православие, в формировании российского государства.
Как показано в статье, современная российская элита все больше отходит от подобной концепции и рассматривает ислам в роли «второй скрипки» по отношению к православию. Более того, как указывает автор статьи, некоторые представители российской элиты считают ислам потенциально опасным и полагают доминирование православия необходимым условием стабильности российского государства. С точки зрения автора статьи, сам Путин является сторонником подобных взглядов, хотя посылаемые Кремлем сигналы не всегда можно трактовать однозначно. С одной стороны, можно полагать, что Кремль не имеет ничего против лояльных мусульман, вне зависимости от их теологических взглядов (с. 26). С другой стороны, Кремль явно отдает предпочтение православию, как господствующему вероучению, и стремится активно участвовать в религиозных делах, как того требует традиция, глубоко укоренившаяся в русском и византийском прошлом. Действительно, Путин прямо говорил, что отрицательно относится к «вульгарной» интерпретации секуляризма (с. 18), что подразумевает отстраненность государства от формирования религиозных убеждений подданных. Тяготение государства к православию и скрытую враждебность к исламу можно увидеть, анализируя мнения известных экспертов по исламу. Некоторые из них являются серьезными учеными, далекими в своих работах от соображений политической целесообразности. Примером может послужить Александр Игнатенко (р. 1947) – «профессиональный арабист» и серьезный ученый (с. 24). Тем не менее, большинство экспертов по исламу «близки к РПЦ и даже к русским националистическим кругам» (с. 27) и именно они формулируют подход к исламу и его отношение к православию – считает Ковальская.
Ковальская приводит мнение этих экспертов. Один из них, специалист по современному исламу Роман А. Силантьев (р. 1977) утверждает, что российское государство недостаточно контролирует российских мусульман (с. 15). Силантьев называет себя «славянофилом». Другой исследователь Игорь Понкин (р. 1969) утверждает, что государство должно поддерживать господствующее вероучение и приводит в качестве примера Израиль (с. 19). Понкин «резко критикует государственные программы поддержки мусульманского образования в России, которые, по его мнению, противоречат светскому характеру государства» (с. 20). Раис Р. Сулейманов (р. 1984) критикует ислам в ракурсе критики «исламского истеблишмента в Татарстане и правительства Татарстана» (с. 21).
Можно отметить, что усиление контроля над исламом и даже его вытеснение на обочину религиозной жизни страны не только все чаще навязывается сверху, но и имеет некоторую, хотя, возможно, и ограниченную поддержку снизу.
Статья Гульназ Сибгатуллиной «Даниил Сысоев: миссия и мученичество (Daniel Sysoev: Mission and Martyrdom)» приводит конкретный пример такого процесса. Автор справедливо отмечает, что распространение православия в основном инициируется сверху: «С тех пор как Кирилл стал Патриархом Московским и всея Руси в 2009 году, главной задачей Русской Православной Церкви (РПЦ) становится идеология воцерковления» (p. 35). Можно предположить, что главной целью Патриарха стало возвращение этнических русских к религии своих предков. Тем не менее, цели православной церкви значительно шире. РПЦ стремится к обращению в православие и мусульман (с. 36). Это стремление привело к появлению небольшого числа православных верующих, которые со всей искренностью берутся за выполнение этой задачи. Таким был Даниил Сысоев. Он «происходил из очень религиозной семьи. Его прадедушка по материнской линии был татарский имам, который говорил, что происходил от Пророка Мухаммеда» (с. 37). Впоследствии Сысоев обратился в христианство. Сысоев занимался прозелитизмом среди мусульман и явно «жаждал мученической смерти» (с. 38). Он действительно был убит, скорее всего, исламистами.
В то время как обе вышеупомянутые статьи посвящены взаимоотношениям между Русской Православной Церковью, стоящим за ней российским государством и мусульманской общиной, работа Альфрида Бустанова «Язык умеренного салафизма в Восточном Татарстане» (The language of moderate Salafism in Eastern Tatarstan) посвящена взаимодействию между исламизмом, этническим национализмом и языком. Бустанов критикует стереотипный образ исламистов. Согласно этому образу, трансформация «традиционных» мусульман, то есть тех, кто исповедует ислам в контексте местной национальной традиции, в исламистов, неотделима от отречения от национального/этнического я. Такие исламисты не только заявляют, что национальность не имеет значения или фактически вредна для ислама, но и утверждают, что язык не имеет никакого значения в религиозном и общественном дискурсе, а посему ведут проповеди на русском языке, которым владеют большинство русских мусульман. Обращенные в ислам этнические русские также говорят на русском языке.
Следовательно, существует мнение, что «распространение русского языка среди мусульманской молодежи является опасным признаком радикализации» (с. 56). Неудивительно, что некоторые представители русского мусульманского духовенства пытаются ограничить использование русского языка. «В августе 2016 года муфтият Республики Татарстан ввел правило, согласно которому все пятничные богослужения в республике должны проводиться на татарском языке» (с. 55). Бустанов оспаривает это предположение, т.е. прямую связь между исламизмом/салафизмом, русским языком и отречением от национальных традиций. Он указывает в этой связи, что не русский, а узбекский был основным языком обучения исламу в СССР» (с. 59). В начале 1990-х годов «арабский язык вновь становится популярным как язык ислама» (с. 68), в том числе среди тех, кто, как подразумевает Бустанов, обратились в интернациональный салафизм.
Позже, в постсоветское время, лингвистическая картина еще больше усложняется, и салафизм уже не требует отказа от национальных традиций и идентичности. «Существуют также салафитские группы, которые подчеркивают свою татарскость, и поэтому настаивают на использовании татарского языка» (с. 56). Действительно, не только «традиционные» мусульмане говорят на татарском языке, утверждает Бустанов (с. 55). Он приводит факты использования татарского языка и вне «традиционной» среды: «Идрис Галаветдин (р.1968) является главным пресс-секретарем салафитов в Набережных Челнах» (с. 58). Он явно находится под влиянием салафистских исламистов (с. 61). Несмотря на сильное иностранное влияние, Галаветдин твердо придерживается татарского языка и традиций. «В 1993 году арабские учителя пригласили Галаветдина обучиться в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, и именно там он начал составлять буклеты исламских доктрин на татарском языке, в которых четко прослеживается фундаменталистская направленность» (с. 66), сообщает Бустанов. Очевидно, что в этом примере нет противостояния «ваххабизма» и «традиционализма». Галаветдин – даже более «традиционный татарин», нежели его критики в Казани, отстаивающие официальную догму «традиционализма» (с. 62). Вряд ли Галаветдин одинок в своем стремлении использовать татарский язык, как язык интернационалистов исламистского дискурса. Например, в медресе «Йолдыз» в Набережных Челнах учителя и ученики приехали из разных стран, но язык обучения – татарский (с. 63).
Статья Дениса Гараева «Джихад как пассионарность: Саид Бурятский и Лев Гумилев» (Jihad as Passionarity: Said Buriatskii and Lev Gumilev) рассматривает исламизм и его связь с позднесоветской и ранней постсоветской традицией. В центре внимания Гараева – Саид Бурятский, имеющий русско-бурятские корни и принявший ислам. Бурятский – один из самых известных русских исламистов. Рассматривая личность Бурятского, Гараев отходит от превалирующего разъяснительного инструментария, помещающего Бурятского в контекст глобального исламизма. По словам Гараева, такой подход ошибочен, по крайней мере, в изучении раннего периода деятельности Бурятского.
Личность и деятельность Бурятского следует изучать как постсоветский феномен. Бурятский противопоставил себя духу конца 1980-х – начала 1990-х годов, олицетворяющему абсолютный цинизм, и предпочел ценности «идеализма, романтизма и гуманизма» (с. 76). Искренность и готовность Бурятского к самопожертвованию впечатляла даже немусульман (с. 80). «Саид Бурятский был создан как настоящий борец с постмодернистской реальностью, образ, на который могли равняться даже немусульманские интеллектуалы». Один из них Голышев считал Бурятского мучеником: “Он приехал в Чечню не для того, чтобы сражаться, а чтобы умереть”» (с. 80).
По словам Гараева, Бурятский был сторонников идей Льва Гумилева (с. 85), у которого он явно позаимствовал понятие «пассионарности»— обезличенной силы, заставляющей людей или народы действовать независимо от их воли и собственных интересов. Это amor fati – любовь к судьбе, к предназначению, от которого невозможно убежать. Применительно к Бурятскому это означает, что тот должен следовать салафитскому течению ислама, несмотря на почти неизбежную смерть. Именно в мученической гибели находит он окончательное утверждение своей философии; и в этом проявляется финальное подтверждение его искренности. Конечно, можно утверждать, что чрезвычайно популярный в конце советской и начале постсоветской эпохи Гумилев вряд ли мог оказать сильное влияние на Бурятского. Корни убеждений Бурятского не были ограничены Гумилевым. Традиция мученичества, по крайней мере на дискурсивном уровне, существовала и в советской культуре, и, тем более, в дореволюционной православной практике. Хотя Бурятский – продукт советской и ранней постсоветской эпохи, и использовал язык этой культуры, позднее он вырастает из культурного кокона своего русского и советского воспитания, вовлекаясь в глобальный исламизм. Впоследствии, Бурятский все чаще употреблял арабские слова (с. 86).
Cовместная работа Гульназ Сибгатуллиной и Майкла Кемпера «Между салафизмом и евразийским салафизмом: Гейдар Джемаль и глобальная исламская революция в России» (Between Salafism and Eurasianism: Geidar Dzhemal and the Global Islamic Revolution in Russia) также рассматривает исламистов как своеобразных революционеров. Главное внимание уделено Гейдару Джемалю – одному из ведущих пропонентов исламизма в России. Краткая биография Джемаля (с. 93), объясняет почему, несмотря на свои радикальные взгляды и открытую поддержку исламистов (с. 98), Джемаль так и не повергался гонениям со стороны властей, хотя в доме Джемаля в последние годы его жизни и проводились обыски. Авторы предлагают свое объяснение относительной толерантности российских властей. «Мы считаем, что Джемаль смог остаться в рамках публичного дискурса и избежать судебного преследования, поскольку ему так и не удалось создать широкое движение или группу последователей или религиозную общину, которая находилась бы под его руководством» (с. 92). Это объяснение авторов нам кажется безусловно обоснованным, но не отражающим полную картину. Джемаль отличался от других сторонников русских исламистов, таких как Бурятский, не только тем, что никогда не участвовал в актах насилия, но ив других аспектах своей идеологии: несмотря на свое негативное отношение к России, Джемаль был еще более критичен в отношении США. Возможно, это было основной причиной толерантности Кремля.
В новой, или фактически старой, роли и РПЦ, и стоящее за ней российское государство стремятся маргинализировать ислам, вытесняя его на вторые роли, при этом всячески продвигая государственную идеологию, где доминирующей религиозной конфессией является православие, а ведущая роль принадлежит русским
Заключение
Данный небольшой сборник статей содержит интересные и важные сведения о развитии ислама в России, его взаимоотношениях с российским государством и обществом в целом. Содержание двух первых работ показывает, что российское государство и общество в целом все больше отказываются от раннего «евразийства», уходящего корнями в наследие советской культуры, с акцентом на «симбиоз» различных национальностей, культур и, имплицитно, вероисповеданий. В настоящее время православная церковь возвращается на позиции, занимаемые в дореволюционной России; можно отметить также, что советская идеология играла ту же роль, что и православная церковь в дореволюционной России. В новой, или фактически старой, роли и РПЦ, и стоящее за ней российское государство стремятся маргинализировать ислам, вытесняя его на вторые роли, при этом всячески продвигая государственную идеологию, где доминирующей религиозной конфессией является православие, а ведущая роль принадлежит русским. Ислам, даже в его «традиционной», институционализированной форме, рассматривается как потенциальная опасность, поскольку некоторые «традиционные» мусульмане вполне могут стать исламистами. Как другие граждане России, они реагируют на проблемы России и озабочены не только социальным неравенством, но и экзистенциальными проблемами, такими как смысл жизни. В этом смысле они представляют риск для властей современной России, так же как и сторонники радикального марксизма и социалистических движений в прошлом представляли опасность для царской России.