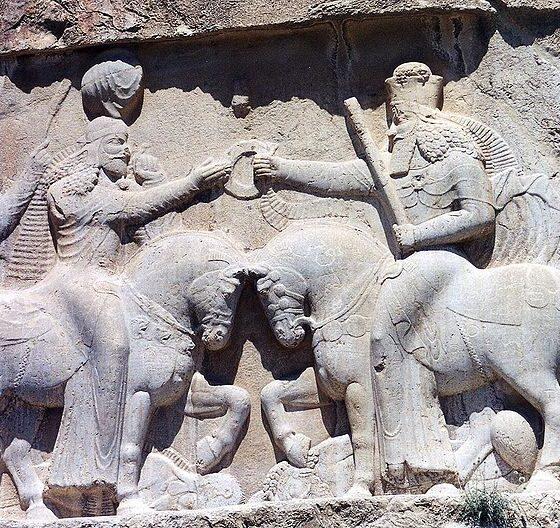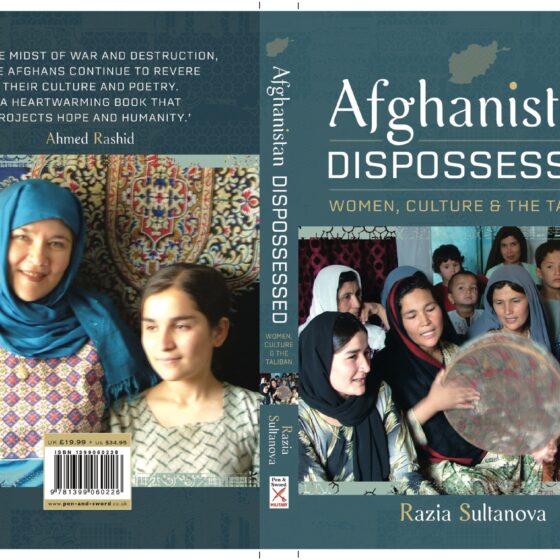Тилл Мостовланский увлечён антропологическим исследованием маршрутов, дорог и путей, а также антропологией инфраструктуры в целом. Именно этот исследовательский интерес лег в основу его последней монографии “Azan on the Moon: Entangling Modernity Along Tajikistan’s Pamir Highway”(University of Pittsburgh Press 2017).
Построенный в 30-х годах на высокой и неровной поверхности, Памирский тракт (автомобильная дорога, соединяющая города Ош (Кыргызстан), Хорог (Таджикистан) и Душанбе, а также через автодорогу М41 и афганский город Мазари-Шариф) коренным образом изменил материальную и социальную структуру этого бывшего советского форпоста на границе с Афганистаном и Китаем. Вначале тракт ассоциировался с чувством разъединения и испытанием трудностей, но после десятилетий советской модернизации и развития дорога стала вызывать у людей особенное чувство – осознание отличия от приграничных стран и городских центров, что сохраняется и по сей день. Но в контексте роста влияния Китая в Центральной Азии, люди, живущие вдоль Памирского тракта, имеют шанс совместить современное будущее с современным прошлым. Книга “Азан на Луне” рассказывает об этом, а также представляет собой богатую этнографию глобальных связей между дорогой, населением и регионом в целом.
Тилл Мостовланский

Тилл Мостовланский является докторантом Гонконгского института гуманитарных и социальных наук, Университета Гонконга. Он защитил кандидатскую диссертацию в Бернском университете в Швейцарии. Oн преподавал в Бернском университете, а также был научным сотрудником Института исследований Азии Национального университета Сингапура.
У Вашей книги отличное название – вы рассказываете о нем в начале и в конце своей книге. Вы можете рассказать немного об этом?
Если ответить коротко, то я часто встречался с моими местными собеседниками на улицах Мургаба (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, расположен на Памире, на высоте более 3600 метров над уровнем моря и является самым высокогорным городом на территории бывшего СССР) – мы сидели на скамейках перед их домами или прогуливались по базару. Во время молитвы, особенно ближе к вечеру, когда из главной мечети раздавался “азан” (исламский призыв к молитве), тамошний пейзаж выглядел безмятежно и сюрреалистично. Я говорю “сюрреалистично”, потому что поверхность восточного Памира очень бесплодная и сухая, почти лунная. Некоторые мои собеседники рассказывали мне анекдоты о том, что они живут на луне – далеко, но все же как-то связано с остальным человечеством.
Но конкретно ответ кроется в этнографической виньетке, представленной в самом начале книги. В моей работе я увидел, как многие истории об обращении в ислам печатаются в популярных буклетах и также распространяются через мобильные телефоны. Одна из таких историй утверждает, что американский астронавт Нейл Армстронг – первый человек на Луне – обратился в ислам после того, как понял, что слышал азан, когда ступил на Луну. Для моих собеседников эта история прекрасно сочеталась с их собственным лунным пейзажем и ростом общественного выражения благочестия вдоль Памирского тракта. Многие люди в регионе также были приобщены к миру технологий; это механики, инженеры и строители дорог. Их привлекала идея о том, что лучшие современные технологии, позволившие людям летать на Луну, в конечном счёте, могут привести к Богу.

Одним из интересных аспектов вашей книги является повествование о богатом лингвистическом разнообразии вдоль Памирского тракта. Как Вы ориентировались в этом разнообразии как исследователь? Что бы Вы посоветовали другим исследователям, работающим в Центральной Азии, сталкивающимся с лингвистическими вариациями в своей работе?
Я приступил к работе после того, как изучал русский язык семь лет, кыргызский пять лет и персидкий/таджикский три года. В этом плане мне повезло: эти три языка важны для исследований по Памирскому тракту. Тем не менее в этом районе говорят на разных языках, среди которых в повседневной жизни наиболее важны памирские языки: шугнанский, бартангский и ваханский. Несмотря на то, что я овладел базовым уровнем шугнанского во время своей работы, ясно что ни один исследователь, даже местный, никогда не сможет понять каждый разговор полностью.
Было очень сложно, когда я не мог понять взаимное общение, диалоги людей. Постепенно я понял, что это обычное дело в повседневной жизни в регионе. Многие кыргызы практически не владеют таджикским или даже памирскими языками; а памирцы часто не могут говорить по-кыргызски. Носители шугнанского часто не понимают слов на ваханском, а таджик из Душанбе может почувствовать себя чужим в Мургабе. Я бы посоветовал принять это разнообразие, попытаться научиться понимать местное взаимное общение и отказаться от идеи языковой чистоты. Разговоры вдоль Памирского тракта – прекрасные примеры многоязычия.

Как исследователи, мы отправляемся на полевые исследования с научными вопросами, но эти вопросы видоизменяются в ходе работы. На какие вопросы Вы пытались ответить вначале и изменились ли эти вопросы?
Действительно, мои научные вопросы часто менялись во время полевых исследований. Если бы они не менялись, это бы скорее означало, что я делаю что-то неправильно. В самом начале моей работы в 2008 году я не решался признать это, но одним из преимуществ антропологического полевого исследования является его способность фундаментально опровергуть самого исследователя. Я смутно помню о том, что написал об этнических и религиозных различиях в плане исследования для диссертации. Проведя много времени в разрежённом воздухе на Памирском тракте, я напрочь забыл об этом угле исследования, так как он перестал казаться подходящим способом размышлять о жизни людей. Для моих собеседников были гораздо важнее дорожные условия, инфраструктура, доступ к государственным службам, хорошая жизнь и будущее их детей. Только в процессе обсуждения этих тем, мои собеседники приходили к размышлениям об этнической принадлежности и религии и так я включил эти элементы в книгу.
Для меня речь идёт о том, чтобы найти правильный путь в лабиринте повседневной жизни и попытаться объяснить читателю смысл этого поиска.
Оглядываясь назад, я думаю, что мои первоначальные вопросы не были несущественными, но они не были теми вопросами, которые задавали сами люди. По иронии судьбы, выслушав их вопросы и узнав об их тревогах, я получил ответы на те вопросы, которые я ранее отбрасывал. Я не думаю, что антропологическое исследование обязательно приводит к прямым, линейным результатам. Для меня речь идёт о том, чтобы найти правильный путь в лабиринте повседневной жизни и попытаться объяснить читателю смысл этого поиска.

Идентичность вдоль Памирского тракта связана с этнической принадлежностью, религией и языком. Как проявляется множественность идентичности в повседневной жизни?
Я бы даже пошёл дальше и сказал, что идентичность вдоль Памирской трассы связана с этнической принадлежностью, религией и языком, но она также связана с полом, местом, современностью, проблемами поколений, социально-экономической ситуацией, политической ориентацией и т. д. В своей книге я стараюсь внимательно изучить различные факторы, через которые люди формируют свою идентичность. Несомненно, вопросы этноса, религии и языка важны для понимания центральноазиатских обществ, но эти факторы иногда становятся позициями по умолчанию, через которые исследователи и журналисты склонны воспринимать регион. Это не очень удивляет, учитывая что люди в Центральной Азии часто подчёркивают эти принадлежности, когда представляют себя.

Что я хочу сказать, это то, что эти представления о себе имеют большое значение, но важно также признать сложность повседневной жизни, где кыргызы не всегда являются кыргызами, таджики не всегда таджики, а «быть мусульманином» зависит от многих факторов, которые мы обычно не связываем с религией.
Вот вам два примера из моего полевого исследования: ситуация с носителями памирских языков, которые являются мусульманами-исмаилитами в Таджикистане, невероятно сложна. Несмотря на то, что их часто стигматизируют за пределами Памира за то, что они «другие» из-за языка и религии, то, что они – таджики, может быть очень важным во время поездок в Кыргызстан. Например, пожилая женщина из Памира объясняла людям в Кыргызстане, что «исконные» таджики пришли с Памира и что она больше таджичка, чем таджики в Душанбе, которые, по её мнению, были ближе к узбекам. Важно отметить, что она не говорила на таджикском языке и говорила в основном по-русски, когда находилась за пределами Памира.
Второй пример касается внутреннего разнообразия вдоль Памирского тракта. Мой хороший друг, памирец, говорящий на шугнанском и выросший в Душанбе, рассказал мне, как они в молодости со своей уличной бандой специально избивали не-памирцев. Однажды, когда они столкнулись с идущей по улице группой кыргызов, они приготовились их бить. Однако как раз перед этим один из кыргызов сказал на отличном шугнанском: «Эй, брат, мы из Памира». Мой друг и его банда были совершенно потрясены: они обменялись рукопожатием с кыргызами и купили им пирожки.
Вы пишете о том, что маргинализация и современность не дихотомичны. Почему это важно?
Дискуссии о современности часто исходят из предположения о том, что современные места и люди находятся в непосредственной близости от городских центров, экономических хабов и политических центров. Это касается обсуждений на Западе, но также распространяется на Азию и Ближний Восток, где накопление богатства привело к возникновению новых идей о городе. Если кто-то работает с институциональным определением современности, выдвигающим капитализм на передний план, то я понимаю, почему они выбирают этот путь.
Здесь вопрос заключается в следующем: а как насчёт всех исторических и современных условий, которые нам нужно не учитывать, чтобы это определение работало? В книге я использую понятие современности, которое стремится заблаговременно избежать таких скрытых предположений. Я разделяю идеи социолога Гёрана Терборна, который предлагает взглянуть на современность как состоящую из временных ориентаций, которые выражаются в определенных социальных условиях. Эти временные ориентации проявляются в пересекающихся и конкурирующих главных нарративах и с помощью социальных сил образовывают узлы, которые могут быть специфическими для местности, но также часто связаны с глобальными процессами.

Люди в регионе оглядываются на масштабные проекты модернизации Советского Союза, примером которых является сам тракт. Они также помнят о том, что им оказывались государственные услуги, а политический дискурс говорил им, что они неотъемлемая часть целого и современные граждане Советского Союза. Напротив, современная жизнь вдоль тракта дает им чувство существования на окраине государства не только территориально, но политически и социально. В то же время различные субъекты – НПО, религиозные реформисты, националисты и местные учёные – обсуждают разные пути для населения Памирского тракта: воссоединить их с современным прошлым, оставить прошлое и присоединиться к светлому будущему или стремиться к современности, усовершенствованной традицией. Все эти процессы происходят в контексте маргинальности, то есть на фоне продолжающихся процессов экономической и политической изоляции.
В своей книге Вы говорите о проектах Ага-Хана. Какую, по-Вашему, роль Ага-Хан и Фонд Ага-Хана играют в развитии и духовности в этой местности?
Ага-Хан и руководимые им институты чрезвычайно влиятельны в большей части Памира. Большинство людей на Памире являются мусульманами -исмаилитами, что является подразделением шиитского ислама, а Ага-Хан – это современный исмаилитский имам, потомок длинной линии преемников, ведущих к Пророку Мухаммаду.
У региона есть долгая история исмаилизма, которую разделяет и население, живущее в приграничных территориях Афганистана, Китая и Пакистана. Когда-то эти люди имели контакты даже с исмаилитскими имамами в Бомбее и их посланниками досоветских времен. Неудивительно, что Советы не хотели позволять им продолжать контакты с духовным лидером, лояльным Британской империи. В 1992 году в Таджикистане началась кровавая гражданская война и Памир оказался на грани голода. Он в значительной степени зависел от внешних поставок в советское время, и в то время как международное сообщество было занято войной в бывшей Югославии, фонд Ага-Хана помог с масштабной гуманитарной интервенцией. В этом участвовали международные партнеры, но по сей день многие люди на Памире приписывают свое выживание работе учреждений Ага Хана. После того, как гуманитарный кризис был улажен, настала очередь проектов развития, а также религиозного управления, которое связало Памир с более крупными сетями исмаилитов в Азии, Африке и на Западе.
Вначале институты Ага-Хана взяли на себя ряд функций, которые ранее выполняло советское государство. Например, электричество Хорога поставляется компанией, которая была основана в рамках тех проектов развития. Качественное образование в значительной степени входит в область компетенций учреждений Ага-Хана, и даже единственный в местности элитный отель является частью этого комплекса. Доступ к транснациональным религиозным учреждениям дал памирцам более тесные связи со своим имамом и привёл к ним централизованные институты, управляющие и упорядочивающие религиозные практики, такие как молитвы и брачные церемонии. Подавляющее большинство людей-исмаилитов, с которыми я встречался, поддерживают эти институты. Однако следует также упомянуть, что есть критики, которые видят в них угрозу местным религиозным практикам, а также считают их слишком бюрократическими в оказании услуг простым людям. Опять же, на восточном Памире, на котором я концентрируюсь в своей книге, большинство людей – не исмаилиты, и инвестиции и влияние институтов Ага-Хана заметно меньше.

Какую удивительную вещь вы узнали во время своих исследований?
Я всегда был искренне тронут степенью любви и гордости, которую чувствуют люди из высот Памира в отношении своей родины. Несмотря на все трудности и недостатки, с которыми они сталкиваются дома, многие мои собеседники тоскуют по спокойствию и безмятежности Памира, когда уезжают. Это приятно видеть, и это опровергает мысль о том, что люди пользуются первой же возможностью уехать, что нередко говорится в освещении СМИ региона. Привязанность к земле также отражается в большой любви к мургабской пище, состоящей в основном из углеводов, жиров и мяса, что иногда побуждало меня засыпать во время интервью. Нужна очень большая сила, чтобы переваривать пищу и говорить в разрежённом воздухе. Я запомнил момент, когда я спросил у подруги из Мургаба, которая путешествовала за границей, о чём она больше всего скучала зарубежом. Несмотря на то, что она пробовала самую лучшую европейскую кухню и индийские карри, она ответила: «шорпо» – суп с куском мяса и одной картофелиной.
Над чем вы работаете сейчас?
В 2012 году после десяти лет полевых исследований в горах Центральной Азии, я начал проводить исследования в Пакистане. Однако я вскоре узнал, что северный Пакистан определенно является частью Центральной Азии культурно и с точки зрения кулинарии. Существует много недостаточно исследованных исторических и современных связей между таджикским Памиром и тем, что можно условно назвать «Большой Бадахшан», в который входят части Афганистана, Китая и Пакистана. В своем текущем исследовательском проекте я рассматриваю эти связи через призму институтов развития и благотворительности, которые возникли из мусульманских сетей во время двадцатого века. Сеть развития Ага-Хана, о которой я упоминал ранее, является одной из них, но существует также ряд учреждений шиитов-двунадесятников, которые формировали социальные и физические ландшафты в регионе через инвестиции в инфраструктуру, проекты в области здравоохранения и мобильности образования.
Все говорят о том, как китайские инвестиции будут менять регион. В моем проекте я хочу оспорить этот довольно распространенный и ориентированный на будущее взгляд.
Все говорят о том, как китайские инвестиции будут менять регион. В моем проекте я хочу оспорить этот довольно распространенный и ориентированный на будущее взгляд. Этому предшествует более долгая социальная история, и я планирую написать о том, как в основном неизвестные учреждения и отдельные люди давно связывали этот район на окраине Центральной и Южной Азии с другими местами в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.
Как вы пришли к исследованиям Центральной Азии и решили изучить Памир?
Подростком я был очарован работой швейцарской писательницы и журналистки Аннемари Шварценбах, которая много путешествовала по Центральной Азии, Афганистану и Ирану в первой половине двадцатого века. Хотя её перо повлияло на меня, к тому времени, когда мне нужно было решить куда поступать, я уже не думал о её книгах. Поэтому, как это часто бывает в жизни, всё, связанное с Центральной Азией, пришло ко мне в виде череды удачных событий. Будучи студентом в Вене в начале 2000-х годов, я изучал русский язык и заинтересовался русскоязычными местами за пределами России. Я познакомился с одним молодым человеком – этническим немцем из Бишкека – на конференции. Он пригласил меня в Кыргызстан и я решил улучшить свой русский язык там. Вскоре после этого я начал изучать кыргызский, и вернувшись в Вену, я смог упорядочить это языковое сочетание в Институте востоковедения, где персидский был частью учебной программы.
Мой интерес к Памиру – это другая, не связанная с этим история. Во время учёбы в Вене я читал о киргизах восточного Памира и думал, что это может стать хорошей темой для исследований. После завершения учебы у меня появилась возможность работать по проекту Швейцарского Управления по развитию и сотрудничеству в Таджикистане в 2007-2008 годах. Живя в Таджикистане, я смог посетить Памир, где мне посчастливилось встретиться с разными людьми района, которые показали мне всю сложность Памира задолго до того, как я решил получить кандидатскую научную степень. Я до сих пор очень счастлив избранным путём. Люди и места Памира являются неотъемлемой частью моей жизни и я с ними связан, даже когда я там не нахожусь.
Интервью взяла Маринта Майлз, аспирант Университета Джорджа Мейсона, где она исследует пересечения между обществом, политикой и религией в Таджикистане.