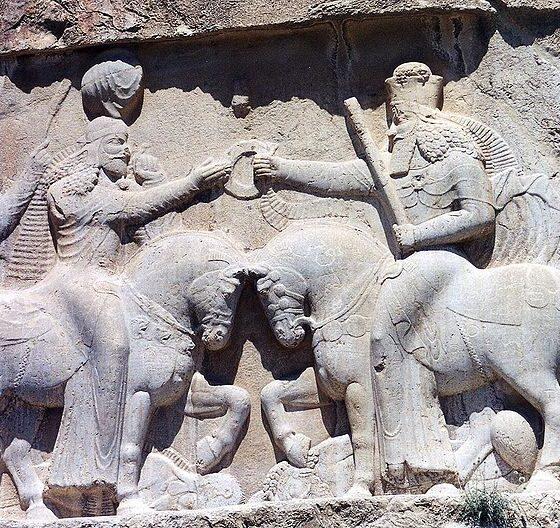В августе 2015 года Институт Брукингса опубликовал исследовательские работы в рамках своего Проекта по переосмыслению политического ислама (Rethinking Political Islam). Этот проект призван дать систематическую оценку эволюции основных исламистских групп в 12 странах: Египет, Тунис, Марокко, Сирия, Йемен, Ливия, Саудовская Аравия, Кувейт, Иордания, Пакистан, Малайзия и Индонезия.
Быстрое развитие событий последних четырех лет: арабская весна, египетский военный переворот и рост ИГИЛ – бросило вызов общепринятому взгляду на политический ислам. После демократического послабления 2011 года основные исламистские группы – аффилированные группы и наследники египетских Братьев-мусульман – приобрели большую известность после десятилетий пребывания в оппозиции, но столкнулись с проблемами управления и глубокой поляризацией в обществах. Последующий (двойной) шок от переворота в Египте и появления ИГИЛ заставляет переосмыслить некоторые из основных укоренившихся предположений об исламистских движениях, в том числе: градуалисткий подход против революционных подходов к изменению; использование тактического или ситуационного насилия; отношение к государству; и взаимодействие идеологии и политических переменных.
Проект включает в себя исследовательские работы на тему политического ислама и проведение дискуссий о том, как арабские восстания и их последствия сформировали, а в некоторых случаях изменили, стратегии, программы и самопредставление исламистских движений.
Шади Хамид – один из руководителей проекта и старший научный сотрудник Проекта по связям США с исламским миром Центра ближневосточной политики Института Брукингса (автор недавно вышедшей книги Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy in a New Middle East «Искушения власти: исламисты и нелиберальная демократия Нового Ближнего Востока») – в колонке на сайте PBS.org дал свое видение того, что он считает неверным в распространенном взгляде на политический ислам:
What most people get wrong about political Islam (Политический ислам: распространенные заблуждения)
Перевод с английского
Политологи, включая меня, как правило, рассматривают религию, идеологию и идентичность в «эпифеноменальном» ключе – то есть как результат определенного набора материальных факторов. Такими факторами являются вещи, которые мы можем потрогать, взять и измерить. Например, при объяснении поступков террористов-смертников, мы предполагаем, что эти молодые люди находятся в депрессии из-за накопленных жизненных неудач, разочарованы тяжелой экономической ситуацией или унижены политическими репрессиями и иностранной оккупацией. Хотя, безусловно, это все является факторами, они не объясняют всю историю.
Роль и сила религии в современном Ближнем Востоке является более приземленной, чем вышеперечисленные факторы (в конце концов, подавляющее большинство мусульман не думают становиться смертниками). «Исламизм» стал плохим словом, потому что исламисты, о которых мы слышим чаще всего, являются членами ISIS и Аль-Каиды. Большинство исламистов, однако, не являются джихадистами или экстремистами; они являются членами основных исламистских движений таких, как Братья-мусульмане, чьей отличительной особенностью является градуализм (исторически отказ от революции), принятие парламентской политики и желание работать в рамках существующих государственных структур, даже светских. Вопреки распространенным мифам, исламисты не обязательно призывают вернуться к средневековой Аравии.
Тогда почему исламисты стали исламистами? Этому есть много объяснения, и каждый член братства имеет свою собственную историю трансформации и «рождения заново». Как часто мне напоминал один член братства, многие присоединяются к движению, потому что хотят «попасть на небеса». Легко, конечно, посчитать такие высказывания как иррациональные всплески фантазии. Но, если посмотреть на это с другой стороны, что может быть более рациональным, чем желание вечного освобождения?
Исламисты не просто действуют в этом мире, но также готовятся к следующему. Братья-мусульмане и организации, вдохновленные братством, нацелены на укрепление религиозного характера людей путем создания многоуровневой системы членства и развития учебного процесса со структурированным учебным планом. Каждый брат является частью «семьи», как правило, состоящей из 5-10 членов, которые собираются на еженедельное чтение и обсуждение религиозных текстов. Для многих членов все довольно просто и понятно. Для них членство в братстве помогает повиноваться Богу и стать лучшими мусульманами, что, в свою очередь, увеличивает вероятность попадания в рай. Такая вера не означает, что эти более духовно-ориентированные члены равнодушны к политике; но они рассматривают политические действия – будь то участие в муниципальных выборах или присоединение к массовым акциям протеста – как еще один способ служения Богу.
Тенденцию рассматривать религию через призму политики или экономики (а не наоборот), нельзя назвать неправильной, но иногда за таким подходом трудно увидеть независимую силу идей, которая для большинства людей западного мира может показаться странной и архаичной. Трудно понять, как люди могут захотеть и готовы сделать, казалось бы, иррациональные действия ради, казалось бы, иррациональных целей. Силы разума и рациональности должны, в конце концов, должен победить иррациональность. Но современный Ближний Восток бросает вызов таким ожиданиям. Как пишет Роберт Каган: «в течение четверти века американцам говорили, что в конце истории будет скука, а не большой конфликт». Фрэнсис Фукуяма, тот самый ученый, который первым провозгласил «конец истории» в 1989 году, в конце своего знаменитого эссе поставил тоскливую ноту: «я испытываю самые противоречивые чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года», написал он. – «Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?» Все более очевидное влияние религии на политику предполагает, что Фукуяма имел более пророческие взгляды, чем считали критики.
Если религия имеет меньшее значение в жизни человека, ему трудно выйти из своего контекста, чтобы не только понять – но и соотнести – смысл и власть религии для верующих, и в особенности, для тех, кто считают, что есть цель и за пределами этой жизни. Для непосвященных необходимы дополнительные усилия, чтобы восполнить этот пробел. И это, в некотором смысле, является наиболее сложным, и в конечном итоге оправданным аспектом моей работы: сталкиваться с чем-то принципиально иным.
Чтобы понять исламистов, вы должны сидеть с ними, говорить с ними и познавать их как личностей со своими собственными страхами и чаяниями. Это, я считаю, является важным для западных аналитиков, ученых и политиков, чтобы выйти за пределы своих собственных убеждений и политических пристрастий. Просто потому, что я американец и скромный либерал, не означает, что я должен насаждать свои идеологические предпочтения на египтян, иорданцев или кого-то еще. Если вы в своем исследовании исламизма собираетесь сравнивать исламистов с каким-либо либеральным идеалом, это будет искажать анализ. Исламисты, в конце концов, являются производными своего собственного политического контекста, а не нашего.
Для нас демократия и либеральная демократия могут казаться взаимозаменяемыми понятиями, но на Ближнем Востоке (а также во многих других местах) это не так. В нашей собственной американской истории мы следовали конкретной последовательности: сначала были созданы основы конституционного либерализма, и только тогда демократия – в смысле всеобщего избирательного права, народного суверенитета и полного политической равенства всех граждан – стала реальностью (в конечном итоге). Во многих обществах с мусульманским большинством, очевидно, существует напряженность между либерализмом и демократией. Нам может это не нравиться – и, в некотором смысле, нам это не должно нравиться – но что, если большинство граждан в данной стране действительно хотят законы, запрещающие алкоголь, разделяющие людей по полу на различных уровнях государственного образования, укрепляющие власть священнослужителей или «исламизирующие» образовательные программы? Все это, на некотором уровне, ограничивает или сдерживает индивидуальную свободу.
Нам не нужно спекулировать: две часто цитируемые «модели» успешной мусульманской демократии – Индонезия и Малайзия – имеют больше шариата в своих обществах, чем, к примеру, Египет, Тунис, Турция, Алжир, Марокко или Ливан. В одной статье индонезийский ученый Робин Буш посчитал шариатские законы, введенные в Южном Сулавеси, Западной Яве и других консервативных регионах. Они включают в себя: требования от гражданских служащих и студентов носить «мусульманскую одежду», требования от женщин носить платок при обращении за услугами в местное самоуправление, требования умения чтения Корана для поступления в университет или получения разрешения на брак. Но есть одна загвоздка. Согласно одному исследованию Института Вахида в Джакарте, большинство этих норм были инициированы чиновниками из светских партий, таких как Голкар (Golkar). Как это возможно? Реализация законов шариата является частью основного дискурса среди партий, что предполагает, что исламизм не обязательно означает исламистов, но представляет широкие слои населения, открытые для шариатских постановлений. Один из ведущих исследователей исламизма в Юго-Восточной Азии Джозеф Лиоу пишет, что «поэтапное осуществления законов шариата в Индонезии не вызвало широкого противодействия со стороны местного населения».
Значит, исламизм не обязательно продукт исламистов. С другой стороны, трудно иметь либерализм без либералов, а либералы остаются слабой группой во многих странах с мусульманским большинством. В двух замечательных и часто забываемых случаях Индонезии и Малайзии, демократия идет рука об руку с исламизацией. Иными словами, когда многие считают, что демократия не может существовать с исламизмом, скорее всего, верно обратное.
Image by Flickr/Magharebia, Tunisia at a crossroad