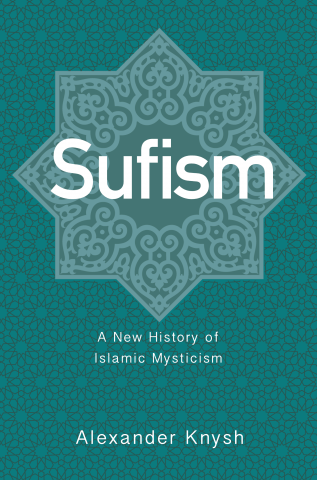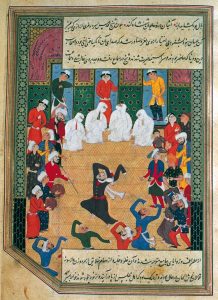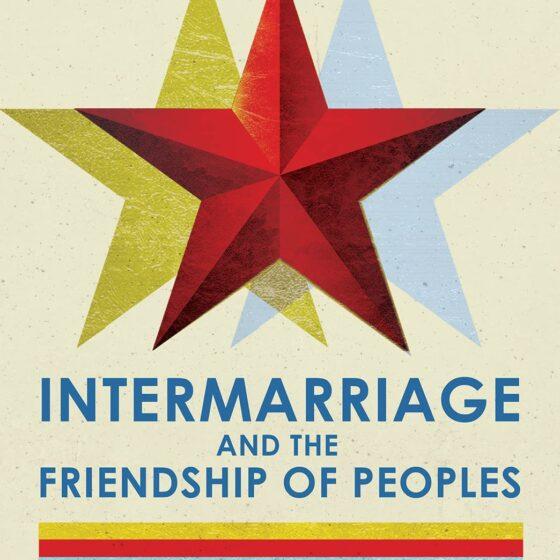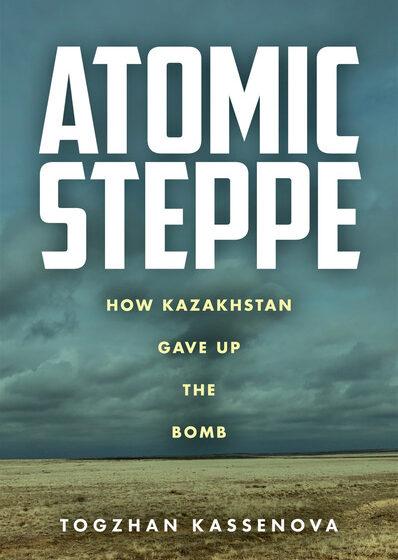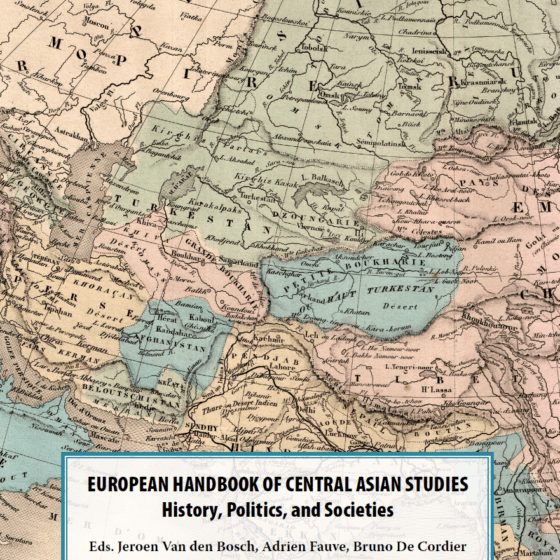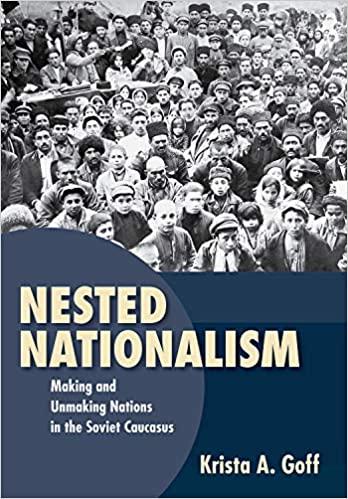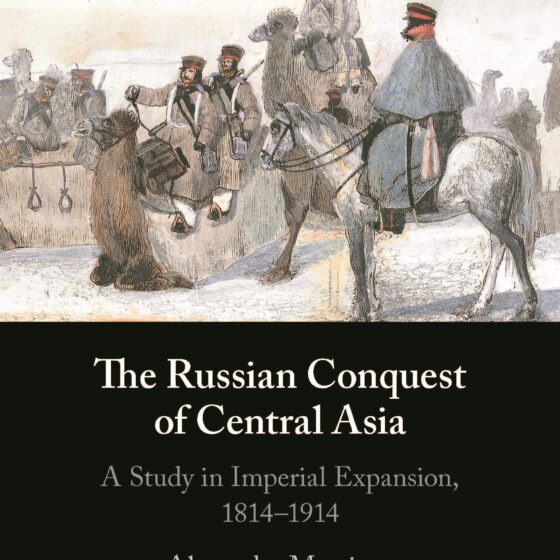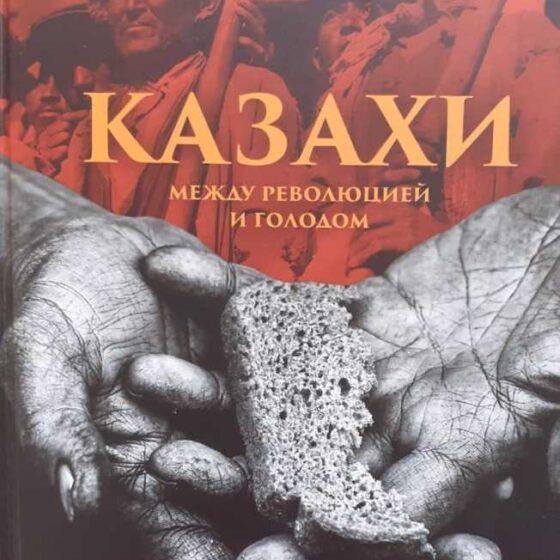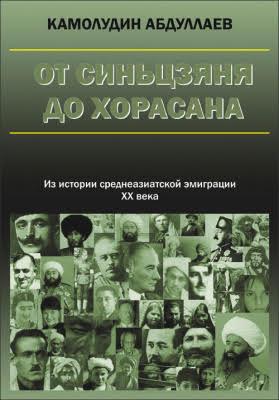«Суфизм: Новая история исламского мистицизма» [1] профессора А. Д. Кныша – это итог более чем тридцатилетнего изучения суфизма и суфиев. Монография предлагает переосмысление как подходов к изучению суфизма, так и суфийских дискурсов (прежде всего экзегетики), практик, сообществ, институтов и лидеров. Другой особенностью «Новой истории» является сравнительный анализ, который представлен почти во всех ее шести главах: дискурсы суфизма и полемика вокруг них анализируются в сравнительной перспективе с неоплатонической, иудейской и христианской традициями. Книга очень важна не только для изучения суфизма, но и для понимания важных методологических вопросов современной историографии. Поэтому темы, которые обсуждает автор: вопросы исторического метода и интерпретации, связь между исламоведами и «властными отношениями» в обществе, подходы мусульман и немусульман к изучению ислама – порой требуют от читателя знания контекста – острых дебатов и эпистемологических проблем в современном западном и российском исламоведении.
Данный очерк – это не рецензия в строгом смысле, а скорее попытка рассмотреть основные идеи этой, на наш взгляд, важной и своевременной книги – и ознакомить с ними читателя.
Особое внимание заслуживает обсуждение методологических вопросов, с которых и начинается монография. Автор пишет, что исследование посвящено не только такому разнообразному феномену как суфизм, и его концептуализации различными акторами с очень разными интеллектуальными предпочтениями и религиозными убеждениями, но и тому, как люди понимают и представляют себе религию в целом. Суфизм исследуется как непрерывный акт такого представления («воображения», по выражению А. Д. Кныша) мистико-аскетического направления в исламе самими мусульманами (инсайдерами), так и немусульманами (аутсайдерами). Интересно, что похожий метод исторического анализа был довольно успешно применен автором в его книге об известном суфии Ибн Араби [2], где было показано как Другие (в частности, критики и оппоненты) на протяжении нескольких веков конструировали в своем воображении образ этого андалусского мистика в диалоге с его идеями и авторитетом. Только в данной монографии этот метод расширяется и экстраполируется не на отдельную фигуру, а на суфизм в целом.
Нужно отметить, что автор во многом опирается на идеи известного теоретика истории Хайдена Уайта, который выдвинул концепцию о том, что историческая наука – это не только дисциплина, в основе которой лежат факты и даты, а скорее форма литературного повествования. Историки собирают воедино материалы, события, даты, которые беспорядочно разбросаны в хрониках и исторических источниках, придавая им «единство значения» с помощью риторических приемов, метафор и аллегорий – перенося смыслы и понятия от одного дискурсивного поля в другое. Точно так же – как пишет А. Д. Кныш – ученые, которые изучают суфизм, пытаются создать из различных источников единый нарратив для того, чтобы передать «собственное понимание о суфизме и, возможно конкретный морально-этический урок». Подобные нарративы о суфизме – это плод воображения и собирания исторических событий в стройное повествование с единым сюжетом. Но в то же время, автор не во всем соглашается с Уайтом. Он пишет, что рассматривать историческую работу исключительно в русле литературоведения спорно. Тем не менее, успех приведения разнородных источников к единому знаменателю, создание относительно стройной истории из беспорядочной груды исторических свидетельств зависит от того, совпадает или нет полученный в результате нарратив с интеллектуальными предпочтениями членов общества, в рамках которого трудится историк.
Таким образом, согласно автору, всякий нарратив о суфизме – это, так или иначе, акт воображения и результат творческого, литературного процесса. Лишение какой-либо стороны права участвовать в этом коллективном акте воображения (например, светских ученых, религиозных мыслителей, ориенталистов, немусульман, антропологов, салафитов, а также самих же суфиев) неминуемо обедняет наше понимание не только суфизма, но и ислама в целом. Более того, как показывает монография, различные авторы, с различными идеологиями, представляющие крайне разные точки зрения, влияют друг на друга и дополняют друг друга, заимствуют или строят свои концепции в диалоге друг с другом.
«Аутентичный» суфизм?
Данная защита полифонии в интерпретации такого сложного феномена как «суфизм» является частью полемики автора «Новой истории» с тезисом известного исламоведа и специалиста по суфизму Карла Эрнста о том, что современный образ суфизма – это искаженная конструкция, «изобретение западно-европейской востоковедной науки конца XVIII века». А. Д. Кныш подвергает сомнению устоявшуюся в западном исламоведении критику востоковедения и исламоведения с позиций постоколониальной теории. Он пишет, что работы суфиев исламской классической эпохи, написанные на арабском, персидском, турецком и других языках ислама, были старательно изучены и переведены западными и российскими ориенталистами на языки – в самом широком значении этого слова, которые понимали их современники. Все это касается не только суфизма, но и исламского права, теологии, биографии Пророка и иных отраслей исламских наук. Это естественный процесс передачи/перевода сложной чужой культуры и религии с помощью культурных кодов общества-получателя данного дискурса.
Что касается предубеждений востоковедов или ориенталистов, то, согласно автору – они очевидны и неизбежны. Но предубеждения свойственны не только им, но и самим суфиям, пишущим о своей собственной традиции. Все авторы – как суфии, так и ориенталисты – являются частью властных отношений, социальных и культурных реалий своей эпохи. Разные суфии, как и все представители других течений внутри ислама, считали свою версию суфизма наиболее правильной и ортодоксальной. Во все эпохи разные мусульманские авторы создавали абсолютно разные нарративы суфизма, которые представляли суфизм либо итогом успешного развития, либо продуктом упадка исламской цивилизации. Поэтому насколько вообще продуктивно или целесообразно говорить об аутентичной или достоверной, а точнее неискаженной версии суфизма, о которой пишет Карл Эрнст? Чьи предубеждения и искажения суфизма более предпочтительны – инсайдеров или аутсайдеров?
К тому же, согласно А. Д. Кнышу, если историческая работа – это нарратив, подчиненный правилам, логике и поэтике языка, и если процесс собирания исторических записей, хроник, материалов в единый нарратив неизбежно превращается в литературное повествование или в сочиненную историю, то проникновение предубеждений (мифов, фобий, идеологических конструктов) принадлежащих конкретной эпохи автора и его языка в этот нарратив – неизбежно. В XIX-XX вв. европейские и российские ориенталисты, следуя идеалам и целям Просвещения, раскрыли для своих аудиторий различные суфийские и анти-суфийские дискурсы, существовавшие в мусульманском мире. С одной стороны они сохранили и перенесли в свои собственные работы скрытые и явные предубеждения и идейные установки суфийских авторов. С другой стороны, они неизбежно привнесли в них и свои собственные интеллектуальные и мировоззренческие предпочтения. В частности, ориенталисты изучали все религии исходя из своего европейского опыта, и поэтому их концепции религии были сконструированы на основе их понимания и ежедневного контакта с иудео-христианской культурой. Это касается и таких созданных ими дихотомий как религиозное/светское, рациональность/иррациональность и т.д.
Бремя востоковеда
Вместе с тем, автор не спорит с одним из главных тезисов пост-колониальной критики и теории «ориентализма»: востоковедение служило эссенциализации, романтизации, дегуманизации, и как следствие, культурному и политическому подчинению субъектов «Востока». Он соглашается с Эдвардом Саидом и его многочисленными последователями, что очень часто за научными изысканиями востоковедов стояли идеологические и политические цели, и что определенные востоковеды явно или тайно поддерживали колониализм. Например, некоторые западные и российские востоковеды преувеличивали опасность ислама для христианской и европейской цивилизации, тем самым легитимируя колониальную политику. И сегодня мало что изменилось в положении востоковедов – как и в XIX в. современные правительства пытаются использовать их знание для своих политических целей. Автор замечает, что особенность профессии востоковеда такова, что он очень часто не может ограничить себя стенами уютной университетской аудитории. Многие ученые XIX и нач. XX вв. служили колониальной администрации, точно так же как и современные ученые, служат своим правительствам, работая в аналитических центрах.
Ошибка помещать всех ученых, изучающих «Восток», в категорию «ориенталисты»
Однако А. Д. Кныш отмечает, что, востоковедное сообщество вовсе неоднородно; в нем представлено много школ и направлений. В частности, задачи и методы академических востоковедов отличаются от востоковедов, которые работают в аналитических центрах. Автор подчеркивает, что востоковеды всегда были разными, и считает ошибкой помещать всех ученых, изучающих «Восток», в категорию «ориенталисты». Прежде чем критиковать востоковедение и востоковедов, полагает А.Д. Кныш, последователям Э. Саида следует определиться, какое именно востоковедение и каких именно востоковедов они критикуют. Он замечает, что сами критики ориенталистов очень часто забывают о том, что и их интеллектуальная работа обусловлена социальным контекстом, властными отношениями, особенностями целевой аудитории и т.д.
Данная критика автора «Новой истории» может показаться некой апологетикой востоковедения – но это не так. На самом деле она указывает, во-первых, на попытку историка разобраться в результатах «вторжения» неомарксисткой критической теории во множестве ее интерпретаций в его дисциплину. А во-вторых, на противоречивость критики ориентализма и ориенталистов, предпринятую Э. Саидом. Дело в том, что Саид строил свою концепцию ориентализма как дискурсивную систему в диалоге с идеями Мишеля Фуко и Антонио Грамши, которые имели противоположное представление о дискурсе, знании и власти. Фуко считал, что дискурс безгранично сильнее субъекта, который встроен в него и не может ему противостоять. Ориентализм – это одна из дискурсивных формаций, состоящая из моделей для действий и утверждений, которым востоковеду необходимо следовать, чтобы занять свое место внутри дисциплины, быть понятым и признанным. Индивиды в этой системе не играют роли. Отдельный востоковед может быть бесконечно влюбленным в Восток и испытывать теплые чувства в отношении мусульман, но дискурс, который он воссоздает, принадлежа к востоковедческой дисциплине, работает на их порабощение. Грамши же видел данный процесс несколько иначе, и описывал его через свою концепцию культурной гегемонии, которая понималась им как насаждение правящим классом определенных мировоззренческих систем, идей и представлений в обществе для поддержания его контроля и порабощения. И в этом процессе насаждения системы ценностей и идей ключевую роль Грамши отводил интеллектуалам (востоковедам, в том числе). Таким образом, если смотреть на деятельность востоковедов через призму идей Фуко – то интеллектуальные предпочтения отдельных востоковедов не имеют значения. Если упростить, то нет разницы между «хорошим» и «плохим» востоковедом, так как все они заложники дискурсивной формации и ориенталистского архива, за пределы которых они не могут выбраться и которые, в свою очередь, служат колониальным целям. Если же следовать Грамши, то определённые востоковеды сознательно создают ориенталистский дискурс как часть культурной гегемонии правящего класса, и таким образом служат политическим, колониальным и милитаристским целям. Критика Саида и его последователей не проводит четкого разграничения между этими двумя пониманиями дискурса, на что указывали и другие исследователи [3].
Таким образом, А. Д. Кныш заключает, что без кропотливой работы востоковедов наши знания о суфизме были бы очень скудны. С их выводами можно соглашаться или не соглашаться, но необходимо отдать им должное за их кропотливую работу, которая, конечно же, несвободна от ошибок, предубеждений и идеологических предпочтений, как и всякая работа современного ученого.
«Изобретение» традиции
Что касается того, что суфизм представленный в востоковедном дискурсе был «изобретен» западными ориенталистами, то такие понятия как аскетизм, мистицизм, религия, неоплатонизм, иудео-христианская традиция и ислам также являются плодом коллективной интеллектуальной работы многих поколений ученых разных стран и народов. Все эти интеллектуальные конструкты, неважно созданы они представителями этих течений или сторонними исследователями, превращаются в живые традиции или практики людьми, которые пропускают их через себя, обсуждают, спорят о них, преподают или практикуют их. Без реальных акторов, которые создают, воспроизводят и практикуют концепции, эти концепции не существуют.
Автор занимает примирительную позицию и пытается показать, что подобные дебаты на самом деле мешают пониманию предмета – так как каждый подход несовершенен и объективное описание суфизма вряд ли вообще возможно. Он пишет, что не стоит строго противопоставлять «дискурсы о суфизме», созданные внутри традиции и созданные вне традиции, считая одни аутентичными, а другие предвзятыми. Намного более продуктивно будет рассматривать эти дискурсы как диалоги о суфизме. Всякое стремление постичь суфизм обогащает наше знание о нем.
Раскрывая тему «суфизма как места встречи мусульманских и востоковедных дискурсов и креативных воображений», А. Д. Кныш показывает, как идеи интересным и самым неожиданным образом путешествуют от суфиев к востоковедам и как то, что порой считается изобретением востоковедов, на самом деле было изобретено задолго до них мусульманскими авторами. Например, автор предлагает пересмотреть устоявшееся в востоковедении разделение суфизма на «суфизм аскетический» и «суфизм мистический», которое восходит к идеям Макса Вебера, считавшего, что ислам изначально был аскетическим движением, а суфизм (возникший под влиянием индийских и персидских источников) привнес в него чуждые исламу элементы мистицизма. Но А. Д. Кныш считает, что комплексное изучение суфийской литературы показывает, что элементы аскетизма и мистицизма – это взаимодополняющие понятия в суфизме, которые трудно отделить друг от друга. Монахи или суфии, решившие вести аскетический образ жизни, преследовали и мистические цели – такие как богопознание или приобщение к божественному. А иначе, грубо говоря, зачем стоит изводить свое тело голоданием? Кроме того, очень часто отказ от мирских благ, продолжительный пост и уединение приводят к мистическим переживанием, экстатическому трансу и различным видениям. Но является ли данная дихотомия переносом западных концепций на исламский материал или одним из видов ориентализма? Как отвечает А. Д. Кныш, подобное разделение было присуще и самим исламским авторам. Например, мусульманский мыслитель Ибн Халдун отделял «правоверный» суфизм аскетов от философского суфизма, который привнес в суфийский аскетизм мистическую метафизику. Похожие идеи высказывали и Ибн ал-Джаузи, Ибн Таймийа и Шамс ад-Дин аз-Захаби. Эти идеи были заимствованы востоковедами от этих и других мусульманских критиков суфизма. Например, востоковеды Луи Массиньон и Кристофер Мелчерт также отделяли аскетизм и мистицизм внутри суфизма, и считали их разными понятиями.
Другой пример проникновения внутриисламской критики в востоковедную теорию – это интерпретация известным немецким востоковедом Фрицом Мейером трансформации отношений между суфийским учителем и учеником. Ф. Мейер считал, что со временем произошла эволюция суфийского шейха от неформального духовного учителя, который лишь помогал своим муридам познать суфийский путь, до авторитарного лидера тариката, который требовал от своих муридов полного подчинения и беспрекословной лояльности. На первый взгляд может показаться, что данное объяснение – это вывод ориенталиста, выборочно проанализировавшего суфийские материалы и сконструировавшего свою версию упадка «внутрисуфийских отношений» на основе теории Макса Вебера «рутинизации харизмы». Но на самом деле подобный вывод был сделан задолго до Мейера многими мусульманскими суфиями и богословами, например, такими, как Ибн Аббад ар-Рунди, Ибн Халдун, Абу Исхак аш-Шатиби. Все они писали об упадке «истинного суфизма» и о деградации отношений между шейхом и учениками.
В этом контексте, автор «Новой истории» задается вопросом: почему критики востоковедения считают, что мусульманские авторы как-то иначе воспринимают и описывают ислам и суфизм? Они, также как и востоковеды, создавали и представляли себе свои собственные учения и практики. Как и востоковеды, они тщательно собирали свои материалы, каталогизировали их, сравнивали и пытались систематизировать ритуалы, обычаи и практики как самих мусульман, так и представителей других традиций. Они использовали разные понятия и термины, но часто приходили к таким же выводам, что и европейские востоковеды. Разумеется, что они не были академическими учеными в западном смысле этого слова, но является ли это действительно необходимым условием для критического и аналитического размышления о религии? Согласно А. Д. Кнышу, подобное обособление аналитической и научной деятельности средневековых мусульманских ученых от западной гуманитарной науки со стороны критиков ориентализма – это некий ориентализм «наоборот».
А. Д. Кныш приводит и другие примеры путешествия и взаимопроникновения идей. Например, идея о существовании высокого, интеллектуального суфизма – ирфана и искаженного суфизма дервишей, которая была сформирована шиитской богословской и философской традицией, была перенята и развита в востоковедении Анри Корбеном. В дальнейшем, его эзотерическое и философское понимание суфизма было распространено его учениками, например, таким известным мыслителем и исламоведом как Сейид Хоссейн Наср. Внутренний, исламский дискурс отражается на идеях востоковедов и то, что порой считается «нейтральной», академической позицией на самом деле укоренено в построениях самих мусульманских авторов, которые востоковед изучает. «Внутренние» и «внешние» подходы к изучению суфизма настолько переплетены, что порой их трудно отделить друг от друга.
Автор показывает, что с одной стороны суфизм объединяет людей с различными взглядами и академической подготовкой, а с другой стороны, эти люди придают суфизму новые смыслы и интерпретации. Каждый находит в нем то, что ищет, и неизбежно привносит в него свои собственные интеллектуальные взгляды. Например известного суфия Ибн Араби представляют, как одного из величайших философов ислама, не только такие перенниалисты как Сейиид Хоссейн Наср или Уильям Читтик, но и ученые, изучающие философию (например, Питер Адамсон или Владимир Смирнов), которые включают его в свои антологии исламской философии. Совсем иную интерпретацию суфизму дают представители других научных дисциплин.
Забытая компаративистика
Сопоставление взаимоотношений между суфиями и салафитами («ваххабитами») на Северном Кавказе и в Южном Йемене показывает, насколько плодотворным может быть сравнительный анализ транснациональных исламских течений. Например, анализ демонстрирует как такие факторы, как: война, экономический упадок, роль внешних акторов, идеологический вакуум, конкурентоспособность и харизма религиозных лидеров, возраст и социальное положение различных групп и т.д. – являются важными составляющими внутренних конфликтов между исламскими течениями и объединяют такие, казалось бы, далекие регионы как Кавказ и Йемен.
Cтоит отметить, что недостаток сравнительного анализа в востоковедении, в частности в исламоведении – это старая проблема. О ней не раз предупреждал известный исламский мыслитель Мухаммад Аркун, который считал, что без тщательного сравнительного анализа как исламских течений (суннитских и шиитских), так и монотеистических религий друг с другом, наше понимание ислама будет ограниченным и эта ограниченность будет создавать препятствия для диалога и взаимопонимания [4]. А. Д. Кныш также считает, что необходимо выйти за пределы общей тенденции обособления ислама и «исламскости», игнорируя при этом богатые возможности для сравнительного анализа, предлагаемые другими религиями и культурами. Отсутствие сравнительной перспективы в современном исламоведении – это очень часто результат либо апологетики («чистый ислам без внешних влияний»), либо ошибочного понимания политической корректности.
«Новая история» завершается приглашением ученых и читателей, мусульман и немусульман, как суфиев, так и востоковедов к диалогу идей и сравнительному анализу, одновременно призывая не забывать о скромных возможностях и относительности человеческого познания, особенно когда речь идет о таком сложном и многообразном феномене как суфизм.
В заключение отметим, что относительно «Новой истории» у нас будут некоторые замечания, которые, впрочем, ничуть не умаляют ее положительных сторон. Первое – автор под суфийскими дискурсами понимает, как суфийскую экзегетику Корана, так и пророческих преданий (хадисов), но, тем не менее, суфийской интерпретации Корана в исторической перспективе уделяется намного больше внимания, нежели тому, как суфии понимали, обсуждали и толковали хадисы. Хотя вопрос о роли и месте хадисов в суфийской мысли недостаточно изучен, особенно в сравнении с ролью и местом коранической экзегетики.
Кроме этого, привлечение более широкого материала к обсуждению современных суфийско-салафитских взаимоотношений (в частности дебатов, проходивших на территории Османской империи, в Индии в XIX-XX вв.) могло бы обогатить содержание книги и усилить теоретические заключения автора. Но, с другой стороны, нельзя объять необъятное: применение сравнительного метода автора и верификация его заключений при анализе иных источников и регионов – дело дальнейшего исследования.
Надеемся, что эта важная книга в очень скором времени будет издана и на русском языке, что позволит привлечь к диалогам о суфизме и к его коллективному воображению более широкую аудиторию.
Примечания
[1] Alexander Knysh, Sufism: A New History of Islamic Mysticism. Princeton: Princeton University Press, 2017, pp. 392. [2] Alexander Knysh, Ibn ‘Arabi in the Later Islamic Tradition: The Making of a Polemical Image in Medieval Islam. Albany NY: SUNY Press, 1998. [3] Robert Irwin, For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies. London: Allen Lane, 2006; Daniel Varisco, Reading Orientalism: Said and Unsaid. Seattle: University of Washington Press, 2007, [4] Muhammad Arkoun, Nahwa tarikh muqaran li al-adyan al-tawhidiyya. Beirut: Dar al-Saqi, 2011. (Мухаммад Аркун, «К сравнительному изучению монотеистических религий»).