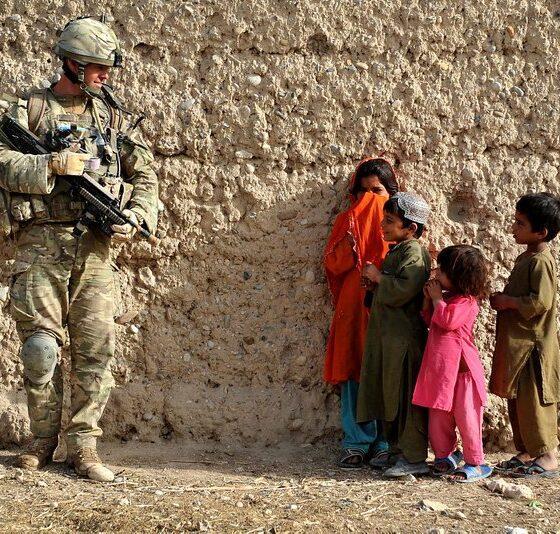В канун столетия Октябрьской революции известный российский историк, этнолог и антрополог Сергей Абашин в беседе с Рафаэлем Саттаровым проясняет некоторые темные места в советской истории Центральной Азии и размышляет о современных проблемах взаимоотношений России и Центральной Азии, прежде всего – национализме, трудовой миграции и постсоветской интеграции.

В последнее время в Центральной Азии идет активная дискуссия об истории размежевания в регионе. В этих дискуссиях, со одной стороны, участвуют разные мнения, и т.н «придворные историки», и националисты, а с другой – отдельные лица, считающие, что историю надо оставить в покое и не манипулировать ей. Дискуссия в основном идет о том, насколько территориальное размежевание в Центральной Азии, осуществленное Москвой, можно считать успешным. Или это неудачный проект, который поддерживает межнациональные конфликты и только способствует территориальным требованиям по отношению друг другу на современном этапе?
На эту тему написано много научных работ, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы их было еще больше. Эти исследования показывают, что административно-территориальное разделение, которое произошло в двадцатых-тридцатых годах ХХ века, было сложным процессом, в котором участвовало множество разных политических сил. Конечно, последнее слово оставалось за Москвой, за Кремлем, и надо сказать, что в процессе ключевую роль играл Сталин, поскольку это входило в его непосредственную сферу ответственности (Комиссариат по делам национальностей – прим. Р.С). Тем не менее, то, что он этим проектом руководил, не означает, что все решения принимались исключительно Москвой. Москва была далеко, она не могла все понимать и знать, что там на самом деле происходит.
К тому же, кроме цели каким-то образом так раздробить регион на национальные республики, чтобы были возможности для манипулирования всеми местными отношениями и конфликтами, Москва была заинтересована также в том, чтобы дело не доходило до открытых столкновений, была какая-то оптимальная кооперация, которая бы устраивала все стороны. Исследования историков показывают, что кроме политического серьёзно учитывался и экономический фактор. Кремлю был нужен не только регион, разделённый по национальным республикам, но ещё и регион, который будет давать ресурсы – экономические, людские, и т.д. Советский Союз уже тогда видел себя в качестве важной международной державы, он собирался расширять свое влияние, в том числе и на Восток, а новые модернизирующиеся республики рассматривались в качестве инструмента для такого расширения. Соответственно, была, безусловно, заинтересованность в развитии инфраструктуры, транспортных узлов, промышленности и т.д. Поэтому, помимо вопросов сугубо национальных, в проекте административно-территориального размежевания учитывались экономические факторы, что сказывалось и на том, какую конфигурацию принимали республиканские границы.
Учитывая то, что каждая нация и национальность – это своеобразный социальный конструкт, как Вы думаете, насколько было уместным решением давать названия тому или иному роду, и заявлять, что теперь в регионе все будет идти по национальному пути, в то время как в регионе не знали и не имели достаточного представления о нации. В нынешней дискуссии историков или лингвистов Центральной Азии, которые рассматривают историю с этнического ракурса, дело иногда доходит до смешного, когда пытаются доказать и выдать того или иного деятеля таджиком или узбеком. В чем заключается причина выбора национального подхода?
Такая точка зрения была не только в Советском Союзе, но и на Западе. Достаточно посмотреть, как делили границы после первой мировой войны в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Надо помнить контекст того времени. Господствующим было убеждение, что все государства должны быть национальными, т.е. они должны соответствовать границам некой этнической группы, нации. Это было не только большевистской точкой зрения, не только левой идеей, самые разные политические силы думали, что только в рамках национального государства возможно какое-то экономическое и социальное развитие, возможна модернизация местного общества. У большевиков была, разумеется, своя корысть – им важно было разбить «мусульманский оппозиционный фронт», в котором они видели враждебного и архаичного противника. Национальное разделение Центральной Азии выполняло эту задачу.
Но кроме такой корысти было, как я сказал, еще и убеждение, что нация – это единственная политическая форма прогресса. Это убеждение сформировалось и у части местной элиты, которая, например, смотрела на пример турецких реформ под лозунгами национального строительства. Таким образом, эти разные проекты и устремления в какой-то момент совпали, оказались близкими по своей идеологии, что создало основу для сотрудничества Кремля и части местных политиков и интеллектуалов.
Вы упомянули, что большевики смотрели на религию враждебно. Но если посмотреть на ретроспективу того времени, то можно обнаружить такой парадоксальный момент. Если в европейской части России или в западной части бывшей империи, большевики активно громили церкви, а в Гохран отправлялись золотые изделия, иконы и церковная утварь, то по отношению к мусульманам был выбран более мягкий подход. К примеру, все обращения большевиков к народам Центральной Азии начинались со слов: «товарищам мусульманам Туркестана», говорилось об «освобождении мусульман Туркестана от феодального гнета» и т.д. Более того, начали даже возвращать конфискованные при царизме культурные и религиозные наследия. К примеру, возвращение знаменитого Корана Османа муфтияту Уфы, а потом обратно в Самарканд. Если сравнивать репрессии по отношению православию и исламу, то можно ли говорить, что к исламу были применены более умеренные репрессивные меры?
Действительно, некоторая умеренность в отношении ислама в то время наблюдалась. Я вам больше скажу: все двадцатые годы вполне официально работали шариатские суды, мусульманские школы, медресе, даже вакуфное управление продолжало свою деятельность, т.е. многие мусульманские институты продолжали существовать и были свёрнуты лишь в конце 1920-х и в тридцатые годы. Но в этом не было никакого идеологического предпочтения ислама другим религиям. Это была исключительно прагматика.
Центральная Азия для большевиков была слишком сложным регионом, и, хотя военной силой они могли задавить своих оппонентов, но им нужно было не только вынужденное подчинение, но лояльность населения, им нужны были союзники среди местного населения и местной элиты. Для получения таких лояльных союзников большевики должны были идти на некие компромиссы, в том числе по вопросам религии.
Логика действий объясняется примерно такими мотивами: «Мы, большевики, установили советскую власть в регионе, где живут миллионы верующих мусульман, мы не можем за год–два создать тысячи судов с юристами, которые могли бы работать по советскому праву. Волей-неволей часть юридических проблем, не уголовных, а административных дел, каких-то семейных споров мы передаем традиционным судам, прежде всего шариатским, которые будут продолжать решать эти вопросы. Мы не можем обеспечить вас всех школами, которые дают образование по коммунистическим стандартам, для этого нужны люди и ресурсы. Поэтому пусть пока работает уже налаженная система –вакуфы, доходы от которых идут на содержание мусульманских школ и медресе, где вместе с религиозными вопросами преподают основы чтения и арифметики. Нам проще и дешевле сейчас ввести какие-то светские предметы в этих медресе, чем ломать и создавать всю систему образования заново».
Большевики, будучи утопистами по своим воззрениям, в реальном управлении страной часто были вполне прагматиками, пусть и поневоле. Но, конечно, такой прагматизм, такие компромиссы имели и свои ограничения, в том числе и временные. И, собственно, с конца двадцатых годов все эти религиозные институты отменяются, а в тридцатые годы начинаются массовые репрессии против религиозных деятелей. Советская власть, накопив силы, отказывается от прежних компромиссов, которые теперь становятся для неё сдерживающими.
Хотел затронуть тему джадидов. Есть несколько противоположных оценок касательно деятельности джадидов. Официальная историография, особенно в Узбекистане, показывает их как борцов за национальную независимость от колониализма, царизма и даже от большевизма. Другая точка зрения утверждает, что джадиды, скорее, были составной частью колониальной власти Российской Империи в Туркестане. Так как в своих призывах они больше призывали быть похожими на европейцев, быть образованными и развитыми, а не призывали к борьбе против колониализма. Какая из этих оценок больше всего близка к реальности?
Современная историческая наука сделала существенное продвижение вперед в изучении интеллектуальной жизни Центральной Азии в начале прошлого столетия. И в общем сейчас все больше и больше учёные отказываются от такой жесткой дихотомии, что местные элиты делились на джадидов и кадимистов, т.е. на реформаторов и антиреформаторов. Сегодня историки видят более сложную картину, в которой те же джадиды оказываются не единой группой, а конгломератом очень разных людей с разными идеологиями. Это и т.н. «правые джадиды», которые были против большевиков, и т.н. «левые джадиды», которые очень быстро вошли в советские структуры власти, многие из них даже приняли коммунистическую идеологию. Многие были в постоянном поиске идей, меняли свои предпочтения с течением времени.
Мы знаем, что большинство джадидов были репрессированы в двадцатые-тридцатые годы. То же касается и т.н. традиционалистов – они тоже были очень разными, некоторые из них имели свои проекты реформ и свои представления о необходимости каких-то изменений в регионе. Одни из них не принимали ни колониальных чиновников, ни большевиков, другие, наоборот, сотрудничали и с теми, и потом с другими. Собственно говоря, Духовное управление мусульман, которое было создано в 40-е годы, состояло не из джадидов, а как раз из традиционалистов. Не существовало раз и навсегда заданных отношений между разными группами мусульманской элиты и российско-имперской или советской властью. Сначала в Российской империи считалось, что джадидские взгляды полезны для центральноазиатского общества, так как провозглашают прогресс, но позднее в джадидах стали видеть опасных оппозиционеров, революционеров и врагов империи, а кадимисты вдруг полюбились российским чиновникам. Примерно так же двояко относились к джадидам и большевики.
Нынешнее позитивное отношение к джадидам объяснимо, так как является частью национального строительства, поиска собственных исторических истоков модернизированной государственности вне советского проекта. В этом есть, безусловно, доля правды. Хотя, с другой стороны, это несколько идеализированное представление. Идеализированное – не обязательно ложное, но упрощающее реальную картину.
Еще по теме:
Сегодня бывшие советские тюркские страны перешли и начинают переходить на латинскую графику для своей письменности. Обычно они в качестве причины указывают стремление быть в прогрессивной части мира, ускорить модернизацию сознания и страны. Выглядит ли это как реинкарнация проекта начала ХХ века, когда большевики вольно или невольно, в какой-то степени опирались и на пантюркизм? Когда начались укореняться такие убеждения среди интеллигенции и политиков в Центральной Азии?
Начну с того, что к тезису о сотрудничестве большевиков с пантюркистами надо относиться с осторожностью. Да, действительно на каком-то этапе большевики сотрудничали с пантюркистами, видели в них в революционную, антиимперскую силу, союз с которой может позволить достичь тех или иных задач – раскол в оппозиционно-религиозной среде, борьба с англичанами, реформы по модернизации общества. Большевикам хотелось использовать энергию пантюркистского национализма, в котором было немало общего с коммунистической энергетикой. Но опыт сотрудничества вовсе не был однозначно удачным, о чём говорит пример младотурка Энвер-паши, с которым большевики вели переговоры о союзе и который потом провозгласил борьбу против них в Центральной Азии. Оказалось, что пантюркизм способен обратить свою энергию и против советской власти, стать её конкурентом, соперником.
Это двойственность видна и в отношении к латинской графике. Сначала её поощряли, прислушиваясь к мнению местных реформаторов, которые убеждали Москву, что латиница поможет бороться с религией и продвигать реформы. А позднее Кремль всё-таки решил, видимо, что латинское письмо будет символизировать некую дистанцию и альтернативный политический ориентир. В результате был совершён форсированный переход от латиницы к кириллице, а далее к интенсивной русификации в образовании и культуре.
Относительно нынешних проектов латинизации алфавитов в странах Центральной Азии, то я хотел бы избежать оценок, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. Мне думается, что это во многом неизбежный процесс, потому что в двадцатые и тридцатые годы вопрос об алфавите и языке был одним из самых важных и ключевых в советском модернизационном проекте. Споры по поводу алфавита, по поводу того, что собой должен представлять общенациональный язык, каковы его грамматика, фонетика, словарь, стали ключевым элементом национального строительства и национального самосознания ещё тогда, в 1920-30-е годы. Язык играл исключительно важное символическое значение в системе власти, управления, в мобильности и доступе к ресурсам.
Допустим, каким был главный вопрос для центральноазиатской элиты во времена позднесоветской перестройки? Вовсе не лозунг полной и немедленной независимости, а требование дать больше прав национальным языкам, придать им государственный статус. До сих пор эта чувствительность темы языка сохраняется, отсюда мы и видим постоянное обращение к проблеме языка и алфавита в постсоветских государствах и такие эмоциональные дискуссии и даже конфликты. Именно через обсуждение языка ведётся разговор о будущем стране, о большинстве и меньшинстве, о том, кто имеет право занимать позицию элиты, об отношениях независимых государств с Российской Федерацией. Проблема языка сейчас сильно встроена в национальное строительство, а это означает, что до тех пор, пока государства Центральной Азии будут мыслить себя национальными, строящими свои нации, к вопросу о языке политики будут неизбежно возвращаться.

Различие, которое Вы отметили, на самом деле очень интересное, но объясняется оно, по-моему, не какими-то идеологическими причинами, а особенностями советского типа модернизации. Что такое был Советский Союз? Если убрать идеологию, то СССР – это общество, которое проходило процесс ускоренной модернизации, процесс перехода от преимущественно аграрного к преимущественно индустриальному и урбанизированному типу социально-экономического устройства. Причем это ускоренная модернизация происходила не через открытие границ и свободное движение капиталов, а наоборот – через внешнюю изоляцию и самоизоляцию, максимальное использование, всеми возможными способами, собственных ресурсов, их сверхэксплуатацию.
Для чего создавались колхозы? Для того, чтобы побольше забрать зерна у крестьян и обменять его на западные технологии, построить фабрики-заводы. Когда заводы были построены, то потребовались уже людские ресурсы – крестьяне стали рабочими и горожанами. В такой версии модернизации для Узбекистана и Таджикистана была отведена особая роль. Главным ресурсом здесь был хлопок, а не зерно. Хлопок обеспечивал сырьем советскую текстильную промышленность, одну из базовых отраслей модернизирующейся экономики. Но для того, чтобы хлопок, культура очень трудоёмкая, бесперебойно поставлялся на фабрики, необходимо было удерживать рабочие руки в колхозах. Поэтому кишлаки не разрушались, там строились школы, клубы и дороги, колхозникам давали возможность держать немного скота и выращивать на приусадебных участках фрукты и овощи для продажи. Неформальная экономика и социальные дотации позволяли людям жить в кишлаках, одновременно обеспечивая наращивание стратегического с точки зрения государственной экономики сырья. Я, разумеется, несколько схематизирую ситуацию для того, чтобы сделать понятнее основную логику.
Другое дело, что было бы дальше, если бы Советский Союз сохранился, в каком направлении дальше трансформировалась бы экономика страны в целом и центральноазиатских республик? Мы сейчас не можем это предугадывать точно. Возможно, страна могла бы больше открыться для мирового рынка. Возможно, в Центральной Азии началась бы активная индустриализация. Возможно, что на каком-то этапе жители из сельской местности более массово двинулись бы в города и в промышленность. Такие тенденции уже были заметны.
Во время коллективизации, заметим, в русских селах долгое время не выдавались паспорта колхозникам, и им не разрешалось покидать свое место жительство. В Средней Азии такая жесткая политика не слишком продвигалась…
Поговорим о миграции. Вы упомянули про лимитчиков, которые в советское время были объектом ненависти горожан, особенно столицы. Сейчас их заменили трудовые мигранты из Центральной Азии. В самой Центральной Азии также идут дискуссии о проблемах трудовой миграции. Как указывают некоторые, в 1916 г. жители региона подняли восстание против попыток мобилизовать их для работы на заводы и фабрики европейской части России, а в XXI веке потомки этих восставших уже добровольно едут туда, куда не хотели ехать их предки. Насколько такие дискуссии могут экстраполировать национализм и правильно ли сравнивать такие две плоскости трудовой мобилизации?
Вопрос о постсоветской миграции связан с вопросом о типе экономики, который сложился в регионе в советское время. Помните, я сказал, что в позднесоветское время стали заметны новые тенденции. Одной из них стало изменение миграционных движений. Фактом, который известен, но который не часто упоминается, является нарастание трудовой миграции из Центральной Азии в Россию ещё до распада СССР. В восьмидесятые годы лимитчики, вахтовые рабочие на московские заводы набирались в том числе из Центральной Азии, они приезжали, работали два-три года и уезжали. Служба в армии, в стройбате, тоже была своеобразной трудовой миграцией, ведь военнослужащие строили и гражданские объекты. Тогда же появились планы переселения части жителей, целыми семьями, из Центральной Азии в Центральную Россию и на Дальний Восток, так как стало ясно, что в регионе образуется избыток рабочей силы. Сегодняшняя миграция центральноазиатских жителей, в основном сельских, в российские города, таким образом, продолжает эту тенденцию и является следующим периодом в той версии модернизации, которая сформировалась в регионе в первых двух третях 20 века.
И, конечно, в национальном воображении, которое сопровождает национальное строительство, массовая миграция всегда играет важную роль. Обычно она воспринимается негативно, так как нация должна быть привязана к территории и определённым границам, а мобильность выходит за их рамки, т.е. несёт угрозу нации. До тех пор, пока люди, правительства, элиты стран Центральной Азии будут себя мыслить в национальных категориях, они будут, видимо, болезненно воспринимать факт массовой миграции.
А насколько миграционная повестка в самой России формирует политический климат и как миграционный вопрос и повестка будут влиять на те или иные события в России, особенно в предстоящем электоральном процессе?
Мы видим, что миграция является сегодня одной из ключевых политических тем во всех без исключения крупных стран мира, не только в России. Это стало симптомом нового национализма, который заявляет о себе активно на фоне процессов глобализации. Власти и элиты России сейчас тоже начинают все больше и больше думать о себе как о национальном государстве. В стране ведутся очень бурные дискуссии о том, кто мы, то ли российская нация, то ли русская нация, что делать с национальными автономиями, как поступать с миграцией. Я говорил уже, что массовая эмиграция, выезд людей из страны, негативно воспринимается национальным воображением. Но точно так же и массовая иммиграция, въезд масс людей, в национальном воображении приобретает характер угрозы и риска. Поэтому если в России и дальше будет кристаллизоваться процесс национального строительства, тема миграции будет сохраняться в качестве важной политической повестки. Но это не означает, что миграция обречена быть основной головной болью. Мы видим, например, что пик обсуждения миграции в России пришёлся на 2013 год, когда на выборах мэра Москвы все политические силы – и левые, и правые, и проправительственные, и оппозиционные – решили использовать образ мигрантов-«чужаков» для завоевания электоральной популярности. Но после 13 года случился 2014 год, возникла тема Украины, которая в проекте российского национального строительства занимает ещё более важное место, чем миграция. Соответственно, споры о миграции потеряли свою прежнюю остроту и ушли на второй план. Не исчезли, а отодвинулись. Такие споры опять могут вернуться на первый план, но это зависит от множества причин, в частности от того, что будет происходить в российско-украинских отношениях.
Негативный настрой против миграции одновременно распространяется как на граждан государств Центральной Азии, так и на граждан Российской Федерации, особенно жителей Северного Кавказа, Бурятии, Якутии и т.д. Чем можно объяснить такой феномен?
Этот феномен как раз и относится к вопросу национального строительства – «что такое Россия?» Если это русская нация в узком этническом смысле, то все либо должны быть русскими, ассимилироваться, либо возникает какая-то иерархия – русская нация и национальные меньшинства, интересы которых должны иметь подчинённый характер. Наиболее «беспокойные» меньшинства, как предлагают русские националисты, могут быть отделены от России. В общем по этому поводу идут дискуссии, существуют разные точки зрения. Но одним из последствий обсуждения этих вопросов является рост публичной и бытовой ксенофобии и расизма в отношении любых «иных».
Безусловно, трудовая миграция из Центральной Азии получает материальные выгоды и происходит такой взаимообмен: Центральная Азия компенсирует нехватку рабочих сил, а мигранты получают материальные блага. Идет ли параллельно с этим процессом взаимообогащение культур между двумя сторонами или каждая сторона действительно пытается не замечать друг друга, и люди живут в таких мирках и «культурных гетто»?
Ксенофобия в отношении мигрантов, мигрантофобия, прежде всего имеет политический и идеологический характер. Она сосредоточена в разного рода СМИ, в политических заявлениях, в виртуальных баталиях. Те же данные опросов показывают, что доля негативно относящихся к мигрантам растёт в моменты политического обострения, когда в пылу взаимных обвинений и критики журналисты и политики много плохого говорят и пишут о миграции. Как было в 2013 году, о чём я уже упоминал.
А в повседневности все по-другому. В своей обычной повседневной жизни жители городов взаимодействуют с приезжими, они вынуждены взаимодействовать. Они приходят в магазины, на рынки, им нужны разные услуги, домашние работницы, им нужно сделать ремонт в квартире или на даче. Многие могут рассуждать, например, так: «я, конечно, не люблю «понаехавших», но тем не менее, мне нужны рабочие, которые сделают эту работу за приемлемые для меня средства. Пусть это будут «понаехавшие», но я смогу экономно достичь своей конкретной цели».
Повседневность обустраивается совсем по другим правилам, чем политическая, публичная сфера. Но это не означает, конечно, что не бывает бытовых стычек и бытовой ксенофобии, но они носят эпизодический и часто локальный характер. Люди стараются чаще разойтись, не пересекаться или как-то налаживать общение и совместное существование. Нравятся нам мигранты или не нравятся, но на уровне здравого смысла есть понимание, что мы друг другу необходимы, мы даже друг от друга мы зависим. И если, например, сейчас два-три миллиона мигрантов вдруг покинут Россию, в стране безусловно будут проблемы, многие предприятия остановятся, разорятся, начнут расти цены и падать доходы у российских граждан. На мой взгляд, такая взаимозависимость будет еще больше усиливаться и здесь очень важно, чтобы политики, журналисты и эксперты были готовыми к этому новому явлению, понимали и учились принимать его.
Разваривая с различными российскими экспертами, я обнаруживал схожую ремарку как у либералов, так у консерваторов, где они подчеркивали, что они как бы не против интеграции на постсоветском пространстве, но не с теми странами, которые не близки культурно и ментально России. Каждый раз подчеркивали, что интеграция должна бы происходить между Россией, Украиной, Беларусью, Арменией и Грузией. Такая оценка ведь и во времена Советского Союза наблюдалась. Вопрос, конечно, в сослагательном наклонении, но, тем не менее, очень интересно узнать Ваше мнение. Как Вы думаете, почему даже в самой Украине среди политологов звучат такие слова, что зачем, дескать, связывать свое будущее с такими странами, как Таджикистан или Казахстан, и лучше идти в уютную европейскую семью, а не в «феодально-байскую структуру ордынского типа»?
В политическом языке, который существуют в современной Украине, в стране, которая мыслит себя национальной, антиподом служит «азиатский русский». В этой риторической войне проводится воображаемая граница между «нами», кто уже почти в Европе, и «ими», кто всё ещё в Азии. Доказательством, как Вы сказали, могут быть, в том числе, и ссылки на центральноазиатских мигрантов и тесный союз со странами Центральной Азии. Я бы лишь отметил, что такое воображаемое противопоставление резко усилилось в результате военной агрессии Кремля в Украину и что наверняка не все украинцы, граждане Украины так понимают и так думают.
Почему именно «Восток», «Азия» стала таким образом «чужого»? Это популярный ориенталистский образ, о чём писал ещё Эдвард Саид, как Вы знаете. «Востоку» давно приписывается отсталость, агрессивность, иррациональность, к этому добавляется исламофобия и мигрантофобия. Это уже готовая формула деления на «своих» и «чужих», которой активно пользуются во всём мире, и в России тоже, и в Украине.
При этом я хочу подчеркнуть, что идентификация конкретного человека обычно не бывает одномерной. Человек способен включать разные регистры принадлежности, которые по-разному позволяют выстраивать границу между «своими» и «чужими». Это не только национальное воображение, национальная граница. Как только мы начинаем включать, например, регистры религиозные, мы отождествляем себя с христианами или мусульманами или как-то ещё, и в этом контексте конфигурация «своих» и «чужих» может иметь какую-то иную форму. По-другому выстраиваются границы, если мы отождествляем себя, например, с советским происхождением, с советской идентичностью, в этом случае может актуализироваться память о совместном участии в Великой отечественной войне, о жизни в эвакуации и другие советские воспоминания, и житель Центральной Азии сразу перестаёт быть «чужаком» для россиянина. Регистры работают очень активно, легко переключаются, и даже националист может превратиться в советского или имперского патриота, хотя это, казалось бы, это друг другу противоречит.
Если перейти к прагматике, то я думаю, что любая власть, которая будет в России, даже самая националистическая, будет все равно вынуждена налаживать нормальные отношения со странами Центральной Азией. Как бы они ни любили мигрантов, существует взаимозависимость, о которой я тоже уже говорил, для экономики нужны рабочие руки, нужны рынки сбыта для товаров, по-прежнему нужен хлопок и другие ресурсы. России нужны безопасные соседи и безопасные транзитные пути через соседние страны. Мы с Вами понимаем и любой националист вынужден будет понять, что Центральная Азия – это важный элемент отношений с Китаем, Афганистаном, Ираном. Все эти вопросы требуют активных переговоров и компромиссов, и даже создания разного рода международных интеграционных коалиций. Это не означает, что не надо бояться националистов во власти, они могут наделать много глупостей и успеть испортить жизнь многим людей, даже довести ситуацию до серьёзной катастрофы, но я думаю всё-таки, что прагматизм заставит и их менять свои радикальные позиции со временем.
Вы работаете в таком уважаемом среди международного академического сообщества Европейском университете в Санкт-Петербурге, на который сегодня обрушили весь бюрократический и чиновничий произвол. Поэтому не могу не затронуть современное состояние гуманитарных наук. Откуда взялось столько некомпетентных оценок, околонаучных рассуждений и конспирологии? Есть ли свет в конце туннеля?
Отвечая на Ваши вопросы, я уже говорил, что наши постсоветские проблемы национального строительства и миграции не уникальны. Это касается также научного и экспертного знания, проблемы в этой области мы видим во всем мире – сокращение финансирования университетов и академий, падение престижа учёных в обществе. Сегодня наблюдается большой глобальный кризис гуманитарной и социальной науки, поэтому и возникает, в частности, проблема шарлатанства, о которой Вы упомянули.
С чем же связан такой глобальный кризис? Это большой разговор. Я бы обратил внимание, например, на то, что закончилась эпоха модернизации, в которую происходило, в частности, распространение массового образования. Теперь очень многие имеют среднее и высшее образование, имеют доступ напрямую к источникам информации, к той же Википедии. В этом смысле дистанция между профессором, академиком по истории или социологии, не говоря о международных отношениях, и просто обычным образованным человеком, который может включить интернет и прочитать определенные книги и статьи, сильно сократилась. Если раньше это была пропасть, то теперь этой пропасти нет.
На постсоветском же пространстве такой кризис усугубляется своей постсоветской спецификой. В девяностые годы был такой колоссальный экономический кризис, который убил многие научные школы и направления. Для науки важна преемственность, а молодые люди просто перестали идти в науку, многие стали уезжать за рубеж. К этому надо добавить крушение прежней идеологии и интеллектуальной традиции, возникновение комплекса неполноценности по отношению к мировой науке и неспособности конкурировать с американской и европейской наукой, а также иногда самоизоляции как способа самозащиты.
Разумеется, в России и в странах той же Центральной Азии работают высококлассные специалисты. У нас в Европейском университете, в Высшей школе экономики, в других университетах и академических институтах имеются сообщества квалифицированных учёных по разным научным направлениям. Правда, остается такое впечатление, что они работают только для себя, пишут для себя и между собой обсуждают интересные проблемы, в то время как в публичном и политическом пространстве все это не востребовано, там востребованы совершенно другие подходы, по-другому выстраиваются авторитеты, пропаганда и истерика всё больше оттесняют профессионализм. Повторюсь, я говорю о гуманитарной и социальной науке. Таким образом, на глобальный кризис гуманитарной и социальной науки накладывается собственный постсоветский кризис и, честно говоря, я смотрю пессимистично на такую ситуацию, так как не вижу, как этот кризис может быть преодолен.
Спасибо за интервью!